
Линьков Е.С. Лекции разных лет. Том 1. 2012
.pdf103
щения нужна всеобщность, абстракция. А как же?!» — Ну, а реальность какая? — «Чувственно-многообразная единичность, больше никакой ре альности нет; что не ощущаем, того и не существует». — Великая святая наивность этого представления! И тем не менее, в этом как раз весь сыр-бор отношения между философией и представлением.
Что же на самом деле делает философия с представлением? А вот эту иллюзорную простоту представления философия разлагает. Если пред ставление говорит, что есть единый бог или триединый бог, как в христи анском представлении, то как представление их соединяет? «Есть бог-отец, бог-сын, бог-дух». Обратите внимание, и тут определения прямо взяты из чувственного мира и возводятся в форму всеобщности. Буквально-то мы не должны рассудочно это понимать, это всего лишь аналогия. То есть в чувственном мире, в конечных вещах и явлениях вот такие-то отношения являются подобием того, что мы говорим о всеобщем субстанциональ ном содержании. А то ведь в самом деле будем разыскивать с данными этнографии и палеонтологии, действительно ли, например, было такое «древо познания», «древо жизни», где росло, размеры и т.д.! Между про чим, до этого и доходят научные формы атеизма, и приходят к выводу «глубокомысленному»: «А знаете, этого дерева нигде и не было!» Всё правильно! Я не случайно столько времени сегодня потратил, разъясняя вам природу представления, откуда оно черпает свою «премудрость». Дело-то в том, что здесь мы с необходимостью вынуждены вертеться в этой форме: и субстанционального содержания, с одной стороны, и чув ственной определённости, с другой стороны; а отправляться нужно от чувственной определённости. А философия разрушает саму эту простоту. Ведь когда представление говорит, что бог триедин, то хоть это единство вроде и внешнее ещё: отец вроде сам по себе, сын и дух — тоже сами по себе, — но всё-таки это равнодушие существования трёх моментов уже движет нас к философии. Пусть это три самостоятельных момента пока, непонятно пока даже, какой из них главный. То ли отец главный, тогда непонятно, зачем сын. Если главный сын как что-то действительное, в чём получает реальность отец, тогда зачем дух? Если дух — зачем отец и сын? Вывод-то получается простой, что отец и сын являются всего лишь увертюрой к духу, ну вроде куколок, которые с необходимостью проходит дух. Так вот, эти три момента, как видите, в представлении совершенно не определены по значению. И если вы хоть чуточку знакомы с историей христианства, его представлений в процессе их формирования, с одной стороны, а с другой стороны, с процессом их исторической обработки и систематизации, то ведь вопрос о том, каково соотношение трёх момен тов, отнюдь не такой простой, как кажется. Оставаясь в пределах способа
104
представления, окончательно дать ответ невозможно: все три момента оказываются одновременно и главными, и второстепенными. Отсюда
ипотасовки: где ортодоксальная линия, а где еретики; где верующие в светлое будущее, а где держащиеся за мрачное настоящее?
Философия идёт другим путём. Она не хочет довольствоваться неопределённостью этих моментов, этих определений содержания представ ления потому, что не хочет довольствоваться неопределённостью самой субстанции, сущности. То есть взгляд философии прост: там, где сущность абстрактна, неопределённа в себе самой, она — не сущность, а всего лишь явление! Поэтому, если вы хотите иметь дело с сущностью чего-то, будьте любезны раскрыть определённость этой сущности в ней самой. Посудите сами, ведь когда мы ставим вопрос, какова сущность чего-то, то это что-то предполагается для представления как нечто чувственно определённое. А когда мы хотим получить ответ, нам подсовывает какую-то абстракцию вместо сущности, и получается какая-то абстрактная сущность, А=А. Удивительное дело, ведь она ещё при этом должна быть именно сущно стью этой конкретной чувственной определённости! Улавливаете, какая получается бессмыслица для философии: абстрактная сущность должна быть сущностью чего-то определённого! Как вам нравится это?!
Задайте простой вопрос для себя: какое отношение эта абстрактная сущность имеет к определённости бытия? Почему она сущность? Если она сущность, то должна чем-то отличаться от самой этой реальности?!
А попробуйте, укажите, чем абстрактная сущность реальности отличается от этой реальности! Вы будете вертеться исключительно в определён ности самой этой реальности, но провести различие между реальностью
исущностью абсолютно невозможно, потому что сущность взята как абстракция. Между абстрактной сущностью и самой жалкой чувственно определённой реальностью различий нет. Это лишь воображаемая сущ ность, её нет вовсе, потому что такая сущность сразу поглощается самой определённостью реальности. Значит, шутки в сторону, раз уж реальность обладает в себе чувственной определённостью, тем в большей степени сущность должна обладать в себе самой этим различением. Сущность — это не уничтожение определённости чувственного мира, а всестороннее, абсолютное, всеобщее развитие определённости чувственного мира, и в этом как раз отрицание этого чувственного мира.
Значит, философия именно тем и вызывает к себе вражду, что она раз рушает абстракции, что она видимость истины не принимает за истину; а ведь видимостью истины является всё, что конечно, что само себя раз лагает и переводит себя в свою собственную противоположность. Значит, мы с вами подходим к тому, что представление — хоть и необходимый,
105
но достаточно односторонний способ развития духа — с необходимостью отрицается, но одновременно, естественно, и удерживается в своём по ложительном моменте, исключительно в развитой конкретно-всеобщей форме. Что благодаря этому достигается? То, что только с наступлением разумного познания, разумного способа духа впервые исчезает данность какого-то содержания, предмета. Обратите внимание, в опыте предмет дан, он есть; и сколько бы опыт ни познавал, например, пространство и время (о чём вопли у нас по сей день ещё раздаются), он никогда не ответит на один главный простой вопрос, а именно: «Какова необходимость суще ствования пространства и времени?» Отвечают: «А что там рассуждатьто? Пространство и время просто есть». Великолепно! Опыт начинает, как видите, с предмета как данного, но и представление как высший способ не уходит от этой данности. Пусть оно чувственную определён ность и перерабатывает в форму всеобщности, данность всё же остаётся, потому что не снята форма внешней необходимости в предмете, и форма случайности отношения остаётся. Вот это всё и снимает философия как разумный способ духа. Впервые исчезает данность предмета и содержа ния. Вот почему предмет философии невозможно указать заранее. Как только мы делаем такую попытку указать, что предмет философии есть то-то, мы в каких угодно способах духовной жизни будем вертеться, но не в способе разумного познания. Подбираясь же к разумному познанию, мы обнаруживаем субстанциональное. Здесь как раз определения суб станционального содержания выступают исключительно в определениях разумной формы мысли. И наоборот, занимаясь вроде лишь разумными определениями мысли, мы одновременно имеем дело с определённостью самого субстанционального содержания, — одно неотделимо от другого. Попробуйте-ка представить себе бытие Парменида, тем более ощущать,
как материю диамата, попытайтесь его даже изобразить в искусстве, ничего не выйдет, а вот разумная мысль его может понять, мыслить! Значит, суб станциональное содержание существует только для разумного мышления, и только определения разумного мышления имеют дело с субстанциональ ным содержанием! То есть конкретное в себе самом всеобщее существует только для мышления и высший свой способ бытия находит в разумном мышлении! Всё на сегодня!
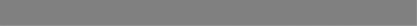
ЛЕКЦИЯ СЕДЬМАЯ
овторим всё предшествующее движение. Мы начали с очень Пкраткого рассмотрения главных моментов, основных способов
развития человеческого духа. Мы коснулись того, что пред ставляет собой опыт, потому что это основной способ всех опытных, эмпирических наук, далее того, что представляет собой искусство, и, на конец, того, что представляет собой представление и почему, собственно, оно выступает способом религиозного сознания.
Мы начали с опыта, и в опыте я опустил ряд подчинённых моментов, хотя бы то, что опыт начинается не просто с рассудочной формы сознания, а вообще-то с чувственной формы сознания, что рассудочная форма со знания является высшей формой сознания опыта и т.д. Нас сейчас будет интересовать рассмотрение лишь главных моментов этих способов. Вопервых, поставим вопрос: что представляют собой все эти пункты вкратце? Можно сказать, что это способы развития человеческого духа. Само собой разумеется, что это одновременно и способы бытия человеческого духа, потому что, естественно, раз что-то развивается, оно уже тем самым как раз и есть. Почему это способы? Потому, что, как мы с вами убедились, рассмотрение не может ограничиться каким-то одним из двух моментов, принадлежащих каждой ступени. Мы не можем застрять ни на содержании, ни на форме, то есть оказались значимыми оба момента: и содержание, и форма мысли; и объективное, и субъективное; и предмет, и сознание. Краткое рассмотрение единств этих двух моментов в опыте, в искусстве и
впредставлении — это рассмотрение единств и их различения и позволяет сделать вывод, что это всё-таки способы развития человеческого духа. Присмотримся внимательнее к этим двум моментам, как они выступают
вэтих способах?
Итак, в опыте на содержание падает многообразие эмпирической еди ничности. Пока мы видим, слышим, воспринимаем, мы вынуждены всегда иметь дело с единичными вещами, единичными предметами. Представьте себе, что мы потребуем от чувства человека или даже от чувственного со знания, чтобы для этого чувственного сознания существовало ещё что-то, кроме единичных предметов. И оно вам скажет категорически: «А знаете, ничего больше нет, потому что ничего более я не воспринимаю как су ществующее». Оказывается, вопрос о том, что существует и что должно быть критерием существующего, вовсе не замыкается в саму предмет
107
ность. Рушится сразу первая и самая распространённая нефилософская форма предрассудка, что нужно исходить из содержания, из материала, и он, авось, сам куда-нибудь вывезет. Вопрос не в том, из чего исходит тот или другой индивид, а вопрос в том, как он обращается с этим исходным материалом, какими способами.
Далее, что поразительное для опыта мы обнаружили: хотя опыт и начи нает свою деятельность с отношения к многообразным, единичным, теле сным вещам, но, к счастью и к благу человека, этим опыт не завершается, хотя он постоянно апеллирует к тому, что чувственно воспринимаемое и должно быть постоянной основой, опыт без этого не может обойтись. Поэтому, как что-нибудь не получается в опыте, раздаётся всегда теоре тический и практический вопль, что нужно ещё раз обратиться к самому содержанию, самому предмету, явно где-то что-то упущено и т.д. Значит, вина всегда возлагается исключительно на момент субъективности: «Плохо относились к предмету, плохо относились к содержанию, нужно исправить, а предмет сам по себе в общем-то хорош». Но интересно, что этот способ, такой добродушный, такой непосредственный и доверчивый, даёт обратный результат. Потому что опыт начинает со случайно данного
содержания, которое якобы существует само по себе и является абсолютно самодовлеющим и безразличным к способу мысли; а результатом опыта выступает раскрытие определённости связей этих явлений, то есть осо знание какой-то особенной формы необходимости. Но ведь особенная форма необходимости сама-то в явлениях не выступает и не присутству ет. Значит, что же делает сознание с предметом в опыте? Оно начинает с непосредственности явления эмпирически существующего, а идёт-то к опосредствованному. В самих явлениях законы и явления неотделимы друг от друга. Нет закона с одной стороны явлений, а явлений закона — с другой стороны, то есть сами законы и существуют предметно как много образие единичных, телесных существований и отношений этих явлений,
этих предметов. Так что опыт не такой невинный, как может показаться на первый взгляд: начинает вроде с явлений, что они хороши сами по себе и должны быть критерием, а результатом опыта всегда выступают какие-то особенные связи, особенные формы необходимости, особенные законы, которые присутствуют в этих явлениях и даже определяют их. Значит, опыт начинается с непосредственного и случайного и идёт к опосредствованно му и необходимому в самом предмете. В исходном пункте опыт вроде бы занят исключительно только предметом. Для него интересно содержание, материал, сырьё — там всё, оттуда он должен всё почерпнуть. Но ведь в своём-то итоге, в определении особенных законов опыт показывает, что эти законы, в явлениях не выступавшие, теперь выступают именно для
108
рассудочной формы сознания. Значит, законы явлений оказываются опо средованными деятельностью рассудочной формы сознания. Нет рассудка
— нет и законов явлений!
Подводим итог: рассудочная форма сознания, будучи такой «невинной»
иякобы следуя исключительно только предмету, только содержанию, на самом-то деле в самих явлениях устраивает раскол на внешнюю оболочку явлений и внутренний его закон. То есть само явление рассудочная форма сознания раскалывает на непосредственность и опосредованность, внеш нее и внутреннее. Ведь любимая лебединая песня рассудка состоит в том, что закон есть внутреннее, что это определённая сила и т.д. Значит, чем опыт для нас важен? Тем, что он вовсе не останавливается на явлениях, вовсе не делает восприятие критерием, как он уверяет в этом, а наобо рот, хотя и кричит, что «воспринимаемое» («то, что я вижу», как говорит Д.И. Писарев) «есть то, что есть», и «больше ничего не существует», тем не менее в итоге закон оказывается критерием явления. В этом движении опыта от начала к своему результату, в пределах опыта, сам опыт под вергает себя отрицанию.
Вчём состоит противоречие начала и результата опыта? Одно дело
— явление, выступающее в начале, и другое дело — закон и законы, осо бенные законы этих явлений. Произошло и ещё нечто другое: в исходном пункте опыт похваляется тем, что он занят очень смиренно, очень скромно (прямо ходячая добродетель!) исключительно только одним: выявлением того, что есть в самих явлениях, в самом предмете. Отсюда и эта знаменитая tabula rasa. А в итоге получаем совсем другое: оказывается, за рассудоч ной формой сознания фиксируется момент абстрактной всеобщности, а за предметом остаётся эмпирическая единичность самого предмета и его особенный закон. Вот как три момента раскладываются в опыте. И дальше этого опыт не идёт, прошу вас не смешивать опыт с другими способами развития человеческого духа!
Всеобщее для опытной формы сознания существует только в субъек тивной сфере и нигде более! И оно есть чистая абстракция всеобщности, это момент тождества мышления с самим собой, чистое А=А. Отсюда
изнаменитый принцип метафизического мышления: «Если мы что-то мыслим и познаем, то никакого другого принципа и не может быть. Мышление, что бы ни развивало, что бы ни претерпевало в себе самом при этом, всегда должно сохранять тождество с самим собой, а иначе это непоследовательное мышление». И такая «последовательность» мыш ления оказывается самой вопиющей непоследовательностью! То есть тождественное себе самому мышление и есть, точнее, и выступит своей собственной противоположностью. Как раз то мышление, которое не
109
содержит в себе противоречия, а базируется исключительно на абстракт ном тождестве, и есть превратное мышление! Ведь в опыте мы только что раскрыли эти основные моменты. Обратите внимание, рассудочное сознание так или иначе фиксирует оба момента противоречия в самом предмете: вот вам непосредственное бытие явления, а вот вам особенная форма необходимости этого явления. Ясно, что это антипод, моменты какой-то формы противоположности. Но в отношении себя рассудочное сознание никак не допускает оба эти момента, оно должно быть только тождественным себе самому. Отсюда вывод: в вещах противоречия, не сомненно, есть, но вот в мышлении противоречиям не место. Эта позиция резче всего представлена И.С. Нарским. Это означает, что мышление только тождественно себе самому, а сами существующие вещи, которые это мышление должно познавать, представляют собой противоречия своей собственной единичности бытия и особенности мышления. Значит, мыш ление никак и ни в чём не соответствует предмету, содержанию. То есть за этой формой «мудрости» скрывается обывательская форма дуализма мышления и предмета, потому что И.С. Нарский и ему подобные просто тонут в явлениях сознания и в явлениях предмета! Это люди, которые в своём духовном развитии так и не вылезли из феноменологической стадии, куколки духовного развития!
Посмотрим, что нам дал второй способ развития духа человека — искусство. Искусство представляет собой великий шаг по сравнению с наукой и со всеми науками о природе, обществе и мышлении. В чём? В том, что искусство по сравнению с опытной наукой впервые избавляется от абстракции всеобщности с одной стороны и какого-то особенного бытия
сдругой стороны; что само искусство и есть единство всеобщего и осо бенного, притом такое единство, где всеобщее определяет свою собствен ную особенность, свою собственную реальность. Искусство являет собой первый способ диалектического мышления у человека, если даже человек об этом ничего не знает. Если человек и начинается как человек впервые
сискусства, с причастности к искусству, то теперь это выступает ещё и
васпекте развития диалектического мышления. Потому что рассудочная форма присуща и всем высокоразвитым животным. Поэтому тут у нас никакого преимущества перед обезьянами нет. Может быть, разница лишь
втом, что у нас есть рефлексия о своём абстрактном тождестве, а у них просто есть это абстрактное тождество в действии в качестве серии проб и ошибок. Впрочем, эта серия проб и ошибок присуща и политикам...
Итак, искусство действительно является великим шагом, и в связи с этим возникает пресловутая проблема: является ли искусство формой ис тины? Это старая дилемма и старая проблема, в своё время и к религии
110
приставали: «А является ли религия знанием или религия есть прежде всего вера?» Это рассудок, который всё классифицирует по полочкам: А=А или только голая абстрактная противоположность без опосредствования — и который всегда любит такие классификации. Конечно, если к искусству пристать с ножом к горлу: «Искусство представляет собой знание, вроде физики, химии и т.д.?» — Нет, конечно! Если бы искусство представляло собой такой способ знания, оно было бы той же самой физикой, химией, но не искусством. То есть вопрос, требование и желание видеть в искусстве тот способ знания, который имеется в опыте, — это презрение к искус ству, желание низвести искусство на низшую ступень. Так что искусство действительно есть способ знания, но отнюдь не в смысле опытной науки. Если оно и есть знание, то как раз знание, превосходящее опыт, и пре восходящее в главном: здесь всеобщее и особенное уже не находятся во внешнем отношении друг к другу, а наоборот, всеобщее определяет свою собственную чувственную реальность. Представьте себе, психология, ан тропология вам рассказывают, что такое у человека то или другое чувство, даже рассказывают научную теорию, например, что такое чувство любви. И сопоставьте эти «величайшие» результаты научного исследования с тем, как то же самое чувство любви выступает в искусстве.
Что даёт наука, занявшись этим предметом? А у неё есть право за няться, ведь есть такое явление эмпирическое во внутреннем мире. Наука даст то же самое, что и в явлениях внешнего мира: она будет щупать и искать, какие существенные связи имеются в той или другой форме чув ства и каковы содержания, в этой связи находящиеся, и всё! При этом не обойдется и без пошлости: например, придет глубокомысленная рефлек сия в голову, что чувство любви есть не что иное, как половой инстинкт, просто-напросто очень взвинченный и вознесенный в облака, — почитайте «Происхождение семьи...», знаменитую работу. Или возьмите статью о поэзии Фрейлиграта, где Ф. Энгельс разъясняет публике, что это такой поэт, читая которого можно подумать, что у мужчины и женщины вообще отсутствуют всякие половые органы, — а без них какое же чувство любви может быть, оно есть всего лишь испарение, имеющее здесь начало! (И религия — это нечто вроде каких-то туманных образований религиозного сознания, но имеющих глубокие гносеологические, социальные корни.) Вот научный взгляд!
Что же даёт искусство? Когда искусство даёт изображение чувства люб ви, то оно освобождает форму и содержание любви от всякой случайности. Оно даёт не эмпирически случайную любовь, притом в различённости (у одного индивида она такая, а у другого — вот такая), искусство, не изменяя своей собственной природе, берёт любовь в моменте всеобщности, то есть
111
берёт всеобщую форму любви, которая определяет содержательную осо бенность. Вот почему, когда мы знакомимся с подлинным произведением искусства, где происходит изображение этого человеческого чувства, в высшей степени интересного и благодетельного для человека, в искусстве выступает подлинная, настоящая любовь; а вот эмпирически существую щая любовь индивида фальшива и есть всего лишь тень этой полной люб ви, которая выступает в искусстве. То есть эмпирически существующая любовь оказывается блеклой копией подлинной любви, выступающей в искусстве. Будь наоборот, тогда вообще не нужно было бы искусство. Если бы эмпирически случайные формы проявления любви были завершённой, идеальной реальностью, зачем тогда искусство?! На русской почве умнее других выступивший В.Г. Белинский правильно развивал мысль, что не только чувство любви, но вообще человеческая жизнь в искусстве — более настоящая и подлинная, чем сама эта эмпирическая жизнь, она есть даже единственно подлинная жизнь. Сравните с этим ползучую вульгаризацию Н.Г. Чернышевского, который говорит: «Прекрасное есть жизнь», — это уже деградация мысли того же В.Г. Белинского. Прекрасное — это не жизнь эмпирическая, а как раз истина эмпирической жизни, возведённая
вискусство. Вот почему без искусства не может быть человека, какой бы жизнью до искусства он ни обладал!
Поскольку искусство выводит нас по содержанию за пределы особен ности, которая ограничена и является абсолютной формой ограничения
вопыте, постольку искусство является способом — в форме искусства
— развития моральности человека. Раз искусство выступает первым от рицателем природного, чувственного, то это одновременно является и на чалом нравственности человека; но это вовсе не означает, что искусство и нравственность суть одно и то же. И я совершенно, категорически против того, чтоб путать эти две сферы определённости развития человеческого духа и занимать такую позицию, чтобы искусство было внешним средством для внешней цели, например, развития нравственности. Таким путём ни чего не останется ни от нравственности, ни от искусства. Наше советское искусство и было уничтожено на этом отношении внешней цели. Внешняя, казённая нравственность в государстве должна была быть учреждена, и она лучше всего достигалась в тюрьмах, пытках, истреблении (потому что перед такой нравственностью кто же устоит?), и в качестве средства выступало искусство! Поэтому не в том смысле мы должны понимать, что искусство содержит в себе момент знания, чтобы это выступило как раз исключительно на потребу рассудочного разъятия, а иначе бессмысленным является положение, что искусство является первым способом и первым
учителем диалектического мышления человека.
112
Что даёт этот способ со стороны главных моментов: содержания и формы? Здесь форма и содержание находятся в таком отношении, что они не могут быть отделены друг от друга. Но помните и другое, что ис кусство перестаёт быть искусством там, где оно теряет свою чувственную определённость и особенность. Поэтому, хотя искусство и есть единство всеобщего и особенного, но это единство всё-таки в чувственной, в осо бенной форме. Значит, это — конкретно-всеобщее, существующее только в особенном, и это и есть величайшее достижение искусства, что особенное перестало быть таким, что А равно себе самому, А=А. Особенное оказа лось конкретным отношением в нём самом, и здесь впервые хоть чуточку начинает раскрываться для понимания, почему особенное существует: потому что оно есть не абстракция, а определённость в себе самом. Это уже выше, чем даёт вся наука: там всеобщность — с одной стороны, у нас в субъективном рассудке, а всё остальное — вне рассудка. Почему существует это единичное? Почему существуют законы единичности?
— Абсолютно без ответа.
Искусство прежде всего делает величайший шаг в определениях своего содержания, шаг в раскрытии истинности, конкретности содержания в нём самом. И тем не менее содержание ещё ограничено определениями особен ности из-за самой чувственной формы. Что даёт представление как способ? Представление впервые вводит содержание во всеобщее. Пожалуйста, в искусстве: рождение Иисуса Христа, несение креста, распятие, снятие с креста и все разновидности вариаций, — но всё это ограничено исключи тельно сферой особенности в религиозном триединстве. Почему? Потому что в искусстве просто невозможно изобразить всеобщность, потому что тогда теряется чувственная определённость. И как раз величие истории ис кусства, занимавшегося этим, состоит в том, что оно знало пределы своего изображения: именно особенность сферы чувственной определённости. Это искусство всегда третировалось как религиозное — в любом случае это вопиющая клевета на это искусство. На самом деле искусство нельзя квалифицировать как религиозное или антирелигиозное. Нельзя именно потому, что искусство ещё есть сфера особенности, хотя и определённой в ней самой. Поэтому нельзя здесь решить вопрос, является это искусство материалистическим или идеалистическим, к природе искусства это не от носится. Это внешний суд инквизиции над искусством! Поэтому остаётся удивляться ограниченности рассудка политиков, которые даже искусство в форме музыки до сих пор в нашем обществе держали под запретом как ис ключительно религиозные произведения. Возьмите «Страсти по Матфею» того же самого И.С. Баха.
