
Путь.в.философию.Антология.2001
.pdf
Мудрость сострадания, мудрость любви
Он определяет отличие философии от науки и религии, рассматрива ет вопрос о сугубой индивидуальности философского творчества, о массовом философствовании, 06 истоках философии как формы со знания, о философии как коммуникации, о философской вере и раз
личных формах философского неверия.
Но главное - Ясперс рассматривает философию в контексте че ловеческого существования. Он показывает, что человек не может быть завершенным. Для того чтобы существовать, он должен ме няться во времени, подчиняясь все новой судьбе. В этой незакон ченности обнаруживает свою специфику и философия как размыш
ление о человеке.
Примечание
Перевод главы из работы: Лазрепз К. Was ist Philosophie? Мцпспеп / Ziiricll, 1976.
242
Габриэль Марсель
В защиту трагической мудрости
Глава 1
Чего можно ожидать от философии?
Начну с замечания, которое мне кажется важным. Было бы ошибкой полагать, что на вопрос: «Чего можно ожидать от философии?» - может быть дан ответ, приемлемый для любого философа, как это могло бы быть в случае с той или иной научной дисциплиной или, тем более, с техникой. В действительности слова «любой философ» имеют, по-видимому, не более смысла, чем слова «любой художник» или «любой поэт». Иначе говоря, я думаю, необходимо самым реши тельным образом признать, что философия, так же как искусство или поэзия, предполагает в своей основе то, что можно назвать личной вовлеченностью, - можно было бы даже сказать, в очень глубоком смысле этого слова, - призванием. Я беру слово «призваниея В его
этимологическом значении.
Само собой разумеется, что философия, как и любой вид челове ческой деятельности, может быть извращена, может деградировать до более или менее карикатурной имитации самой себя. Такая опасность особенно реальна ввиду того, что к философии принято подходить как к экзаменационному материалу. Именно во Франции, где существуют классы философии, экзамен на степень бакалавра философии, препо даватель, занятый подготовкой к этому экзамену, рискует действовать по примеру своих коллег - историков, специалистов в области есте ственных наук и Т.Д., видя свою задачу в том, чтобы ученики его по просту могли ответить на письменные либо устные вопросы, которые им будут заданы в ходе испытаний. Ужасное слово «bachotage»1 очень точно передает характер той галиматьи, о которой недостаточно ска зать, что она не имеет с философией ничего общего: следует как раз подчеркнуть, что она является ее противоположностью. Конечно, мо жет случиться, что те, кто сделал философию своим ремеслом, когда
то в начале пути слышали призыв, о котором я уже упоминал и при роду которого я попытаюсь раскрыть. Может - но это вовсе не обязательно. И с другой стороны, не подлежит сомнению, что очень
16' |
243 |

Мудрость сострадания, мудрость любви
часто это докучное занятие душит в преподавателе, гасит, словно за сыпая пеплом, изначальную искру. Это, однако, отнюдь не является неизбежным. Я знавал преподавателей, которые сумели сохранить в себе нетронутым это совершенно особое горение, без которого фило софия мелеет, теряет жизненные силы, развеивается в словах.
Данную проблему следовало бы рассмотреть и под другим углом зрения, а именно - с позиций ученика или слушателя. Подлинное философское отношение - то, каким Платон его не только опреде
лил но и наполнил жизнью на долгие века, - это пламя, в свою оче
редь пробуждающее пламя. И все же в сфере, подобной нашей, воз
можно все. Может случиться, что, несмотря на весьма схоластическое преподавание, молодой человек, в ком философское начало живет в
качестве возможности, вопреки всему открывает эту реальность, к которой он тяготеет и к которой, добавил бы я, он уже каким-то об
разом принадлежит, сам того не ведая.
По правде говоря, я рискую вызвать у моих читателей неизбежный вопрос. Мне могут возразить: «Настаивая подобным образом на роли личного участия в философии, не боитесь ли Вы лишить ее всякой объективной значимости, свести к игре, полностью подверженной индивидуальным прихотям?»
Совершенно необходимо быть готовым к этому возражению, с тем чтобы сразу же устранить путаницу, которая способна привести к
худшим недоразумениям.
Смешение здесь касается самой идеи субъективности. Думается, мы сможем сделать картину более четкой, сосредоточив наше внима ние на искусстве, которое в некоторых отношениях находится в си туации, схожей с философией.
Очевидно, что в основе произведения искусства мы находим - или полагаем - существование личной реакции, самобытного способа от
вечать на многообразные и в некотором роде невысказанные призывы, которые та или иная данность адресует сознанию субъекта. Однако не менее ясно, что эта субъективная реакция сама по себе не представляет никакой художественной ценности. Такая ценность проявляется лишь
со структурами, конституирующимися в ходе того, что мы называем творческим процессом, оценить их предстоит не только субъекту, Т.е. в данном случае художнику, но и другим возможным зрителям либо слушателям. Конечно, было бы неосторожно говорить здесь об уни
версальности как о чем-то распространяющемся вширь: эти структу ры, безусловно, не могут быть оценены или даже признаны всеми. «Все» здесь - понятие пустое, неприменимое. Я отлично помню, как в пору, когда музыка Дебюсси еще не получила признания, многие находили, что она лишена мелодичности; сегодня это мнение мы счи таем заблуждением. В такой вещи, как «Пелеас И Мелисанда», мелодия как раз непрерывна, и именно потому, что она во всем, слушатели с
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
непривычки не способны были ее различить. ДЛя них мелодия означа ла мотив, который насвистывают, напевают вполголоса по выходе с концерта или из театра. Но, разумеется, недостаточно, чтобы форма в нашем случае мелодия - была воспринята в своей целостности; нуж но еще, чтобы ее признали значащей, несущей смысл, - при том, что это смысл имманентный, его не передать словами. Во всех случаях лишь благодаря структуре между субъектами может установиться ком муникация, которая позволяет говорить о ценности. Факт, что я могу общаться с другим с первых же тактов 14-го квартета Бетховена и что это общение не будет исчерпываться единодушными констатациями по '!аСТИ тональности произведения, способов вступления инструмен тов и Т.П., - констатациями, которые способен сделать и глухой, не профессионал: достаточно было бы для этого просмотреть партитуру. Если мы восприимчивы к этой музыке, мы признаем, при всей ущер бности слов, которыми обречены пользоваться, что благодаря этим
структурам перед нами предстает определенное качество: здесь и грусть, и даль (что хорошо передает английский термин remoteness), - и мы согласимся с тем, что, быть может, никогда еще чувство беско
нечного не получало столь интимно-душевного выражения.
Я задержался на примерах подобного рода, чтобы показать, что в искусстве субъективность тяготеет к переходу винтерсубъективность, совершенно отличную от объективности - как ее ПОНИl\шет наука - и при этом абсолютно преступающую границы индивидуального со знания, сосредоточенного на самом себе.
Сходные в некотором смысле соображения могут быть высказаны по поводу того, что мы имеем основание называть философским опытом. Я готов, не колеблясь, заявить, что нет и не может быть до стойной этого названия философии без того специфического опыта,
природу которого мы должны попытаться определить: так же как не может быть подлинной музыки там, где отсутствует слух для ее вос приятия... Было бы трюизмом утверждать, что музыка так или иначе
предполагает наличие слухового органа: слово «слух» В эстетическом плане означает нечто бесконечно более тонкое, определенную спо собность оценить отношение, или еще, быть может: позицию созна
ния перед лицом того, что ему дано услышать.
Но позиция философа не может быть принципиально иной при роды, нежели трактуемый подобным образом слух.
Только что я употребил слово «позиция», хотя при этом говорил об опыте. Но в действительности здесь нет противоречия. Ибо пози ция, о которой идет речь, может проявляться лишь в определенном способе, каким сознание реагирует на то, что следует назвать его фундаментальной ситуацией.
Здесь надлежит точнее определить самое природу этой реакции. Мне кажется, ее возможно охарактеризовать как удивление на грани
244 |
245 |

Мудрость сострадяния, мудрость любви
беспокойства. Может быть, как это часто бывает. негативные опре деления помогли бы нам лучше представить себе это состояние. Прежде всего ему свойственно не принимать реальность как нечто безусловно данное. Но что именно здесь понимать под реальностью? Речь совершенно очевидно идет не о том или ином частном явлении, объяснение которого хотелось бы получить. Здесь имеется в виду ре альность в ее целостности; или, точнее, проблемой является именно эта целостность, эта тотальность. И, возможно, следует особенно ак центировать таинственную связь между мной, вопрошающим, и этим миром, о котором я задаю себе вопрос. Кто я, вопрошающий, - в этом мире либо вне его? И в этом смысле должно быть сказано, что философская мысль - это та, которую перед лицом данного охваты вает своего рода нетерпение, способное перерасти в тревогу.
Обращусь к примеру, который мне кажется одним из наиболее убедительных. Философской мысли нелегко смириться с фактом, что то, что мы зовем реальностью, предстает перед нами в определенной смене явлений. Это означает, что данный порядок - который подчас может казаться беспорядком - безусловно пробудит в философе не доверие, ощущение, что у него нет почвы под ногами. Возможно, он станет спрашивать себя, не идет ли речь всего-навсего о видимости вещи, которая в других условиях способна явить себя иначе; следую щим вопросом будет: может ли вообще вещь существовать в себе, Т.е. помимо любых способов проявления. Нетрудно показать, что эти вопросы связаны с другими, касающимися этого «Я», коим Я явля юсь, коему дан этот внешний облик. Поскольку я - средоточие этих видимостей, где гарантия, что сам я являюсь чем-то большим, чем видимость? И так далее, и тому подобное.
Подобная нить размышлений может привести нас к философии типа философии Брэдли. Я вовсе не хочу сказать, что всякий философ станет формулировать свои вопросы именно в этих выражениях. Вспомним о том, что было сказано выше. Мы теперь уже не можем говорить о «лю бом» философе, «любом» художнике или поэте. Такие выражения при годны лишь для сферы чистой объективности, той, с которой мы име ем дело в экспериментальном плане. Например, частицы такого-то и такого-то химического тела (хлор, натрий и т.п.) неизменно дадут та кую-то или такую-то реакцию, которую зафиксирует любой наблюда тель. Безусловно, априорные условия, которые пытался определить Кант, относятся к опыту именно этого рода. Опыт же, о котором идет речь в нашем случае, связан ли он с деятельностью философа или ху дожника, абсолютно отличен по своей сути. Можно также сказать, что
он имеет место на совершенно ином уровне реальности.
И здесь происходит нечто весьма примечательное, на чем нам сле дует сосредоточить внимание, а именно: опыты философов (либо ху дожников), самые различные, могут коммуницировать между собой;
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
я бы даже сказал, что философский опыт, не способный воспринять иной опыт, несхожий с ним, с тем чтобы понять его и при необходи мости превзойти, - должен рассматриваться как несостоятельный.
Итак, можно утверждать, что для философского опыта крайне важ
но по мере его развития вступать в соприкосновение с другими - так же разработанными, чаще всего выстроенными в систему. Мало того:
такое соприкосновение реально составляет часть данного опыта, спо собствуя самопрояснению последнего, его кристаллизации в поняти ях. Это особенно четко выступает у такого мыслителя, как Хайдеггер;
его мысль словно втянута в непрекращающийся диалог с философами
предшественниками, - не всеми, разумеется, но с теми, с которыми он ощущает как бы сродство: это великие досократики, Платон и Ари стотель, а из современных философов главным образом Кант, Гегель и Ницше. В этой связи сошлюсь на весьма красноречивый факт.
Хайдеггер впервые посетил Францию в 1955 г. и был принят в замке Серизи-ля-Саль, где собралось множество философов и студентов, с тем чтобы воспользоваться его пребыванием в стране. Все надеялись, что Хайдеггер прокомментирует наиболее сложные пассажи из своих сочине ний и прояснит их. Каково же было разочарование присутствующих, ког
да стало известно, что после вступительного слова, касающегося филосо
фии вообще, он прокомментирует ряд текстов: не своих, а Канта и Гегеля. Тем, кто робко выразил свое удивление, Хайдеггер ответил, что его метод состоит именно в прояснении своей мысли путем рассмотрения учений великих философов, тех, кого он особо штудировал.
Важно заметить, что подобные комментарии у философа столь са мобытного всегда связаны с реинтерпретацией (можно сказать, твор ческой) философов, к которым он обращается. В данном случае это справедливо в особенности в отношении досократиков и Канта.
Теперь, исходя из этого, можно сформулировать общие проблемы, которые очень волнуют многих философов, в частности во Франции; проблемы эти касаются самой сущности истории философии. Сегодня, безусловно, более прозорливо, чем когда-либо прежде, признается необ ходимость и в то же время сложность философии истории философии.
Но, как бы то ни было, складывается впечатление, что философ ский опыт, начало которого неизбежно напоминает одиноко звуча щее инструментальное соло, стремится в своем развитии превратить ся в концертирующее; он и является таковым в той мере, в какой противостоит другим, так как это тоже - форма опоры на них. Так было, например, с взаимоотношением между Кантом и Юмом, бли же к нашему времени - между Бергсоном и Спенсером; если мне бу дет позволено сослаться в этой связи на собственный опыт, то я могу тоже сказать, что моя философия при своем формировании противо стояла современным неогегельянцам, и особенно Брэдли, как, впро чем, и французскому неокритицизму.
246 |
247 |

Мудрость сострадания, мудрость любви
«Но, - скажут, возможно, некоторые из моих читателей, - если мы Вас верно поняли, то думается, что Вы даете довольно странный и весьма обескураживающий ответ на вопрос, который был постав лен в начале Вашего исследования. Вы сказали, с одной стороны, что философия существует лишь для того, у кого есть личный опыт в этой области, кто, во всяком случае, наделен способностью воспри нимать такой способ мышления. Теперь Вы утверждаете, что фило софский опыт предполагает живую коммуникацию, диалог с рядом других достигших зрелости философских опытов, - т. е., в итоге, с другими философами. Но не означает ли это, что в философии все происходит внутри своего рода магического круга, между привилеги
рованными, или, иначе, в храме, куда непосвященные не могут иметь
доступа? Но ведь нам, когда мы спрашивали о том, чего можно ждать от философии, важно было знать, что последняя в состоянии дать именно неспециалистам, профанам, если угодно; ведь мы - непосвя щенные. Если же речь идет просто-напросто о своего рода игре меж ду компетентными лицами, то нас она оставляет безучастными... Ведь тот, кто не играет в шахматы, равнодушен к партии, проводящейся на
его глазах, поскольку он не знаком даже с правилами игры».
Это возражение обладает тем большим преимуществом, что оно побуждает меня внести действительно необходимые уточнения.
Прежде всего я должен сказать следующее. Совершенно очевидно, что было бы ошибкой воображать, будто между философом и не-фило софом существует что-либо похожее на водораздел. Такой преграды не было и в другие эпохи: тем более ее нет сейчас, когда сама литература -
та, которую все читают, или подразумевается, что они ее прочли, - на столько пронизана философскими идеями, что в действительности ста ло невозможно провести между ними какую бы то ни было демаркаци онную линию. И это справедливо не только для эссе или романов, но и для пьес, и для кинофильмов. Пример Сартра в этом смысле чрезвычай но показателен. Между романами и пьесами Сартра и его философски ми произведениями невозможно провести подлинную границу. То же я могу сказать и в отношении себя. В этой связи вспоминается и такой писатель, как Поль Валери, который, хоть он и выставлял напоказ свое презрение к философии, но в действительности тоже был внекотором роде философом, даже в области чистой поэзии; причем был им на столько, что очень точный комментарий к его замечательному поэти ческому сборнику «Чарования- «,Charmes») дал не кто иной, как фило соф-профессионал Алэн. Но, безусловно, нужно пойти еще дальше и
сказать, что всякому мыслящему существу, в особенности в нашу эпо
ху, присуще, - конечно, не постоянно, но минутами, - нечто вроде за чаточного философского опыта. Я бы охотно уподобил этот опыт свое образному трепету перед лицом великих таинственных реальностей, как-то: любовь, смерть, рождение ребенка и т.п., которые вводят жизнь
р
|
I |
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости |
|
|
|
|
каждого человека в ее конкретное русло. Можно, я думаю, с уверенно |
|
|
|
стью сказать, что всякое волнение, пережитое человеком лично при |
|
|
встрече с этими реальностями, представляет собой нечто вроде зароды |
|
|
|
|
|
ша философского опыта. Очевидно, что в огромном большинстве слу |
|
|
чаев этот зародыш не только не развивается в артикулированный опыт, |
|
|
но, по-видимому, и не нуждается в подобном развитии; и тем не менее |
|
|
|
|
|
верно и то, что почти каждый человек в какой-то высший миг испытал |
|
|
эту потребность быть озаренным, получить ответ на свой вопрос. |
|
|
|
|
|
Конечно, следует добавить, что развитие принимает именно такой |
|
|
характер особенно по мере того, как религия в собственном смысле |
|
|
этого слова хиреет, или хотя бы по мере того, как изменяется ее при |
|
|
рода и умы все менее довольствуются готовыми ответами, которые в |
|
|
прежние времена они, как кажется, принимали без возражений. |
|
|
|
|
|
Может быть, стоило бы еще добавить к этому нечто, представля |
|
|
ющееся мне очень важным, а именно, что сознание людей заполони |
|
|
ли отходы философской мысли - отходы, тиражируемые газетами, |
|
|
digest или попросту распространяемые в беседах, и что в большинстве |
|
|
случаев эти отходы могли бы быть сожжены с пользой, наподобие ку |
|
|
хонных отбросов. Приступить к такой процедуре, на мой взгляд, - |
|
|
одна из немаловажных функций философии. |
|
|
Тем временем в умах моих читателей может созреть новый вопрос, |
|
|
еще более нетерпеливый, чем предыдущие. |
|
|
Мне скажут: «Вы допускаете, что между "не-философом" и фило |
|
|
софом может и должна установиться определенная связь. Но о каком |
|
|
философе идет речь? Непосвященный испытывает чувство тревоги и |
|
|
беспокойства, оказавшись лицом к лицу со множеством философий, |
|
|
которые по видимости исключают одна другую. Да и сам факт, что он |
|
|
должен выбирать между ними (не очень ясно, как и следуя какому |
|
|
критерию), - как это совместимо с общими для них всех претензия |
|
|
ми выражать истину или истины? И с другой стороны, если философ |
|
|
когда-то отказывается от этой претензии, не вырождается ли его заня |
|
|
тие тогда в пустую игру? Вопрос можно сформулировать и иначе: ка |
|
|
ким образом перед лицом этого хаотического множества еще возмож |
|
|
но говорить о философии в том смысле, в каком говорят о науке'» |
|
|
Совершенно очевидно, что подобное возражение нельзя игнорировать |
|
|
и что ответ на него прямо влияет на ответ, который надлежитдать на воп |
|
|
рос, поставленный вначале: «Чего следует ожидать от философии?» |
|
|
Я полагаю прежде всего, что надо раз и навсегда покончить с пред |
|
|
ставлением, которое так или иначе владеет теми, кто это возражение |
|
|
формулирует, - Т.е. с представлением о некой витрине или экспози |
|
|
ции, где соседствуют различные философии и посетителю остается |
|
|
выбирать между ними. Одно из наиболее бесспорных преимуществ |
|
|
мысли, основывающейся на истории, заключается именно в выявле |
|
|
нии абсурдности такого сравнения, поскольку подобное рядоположе- |
248 |
249 |
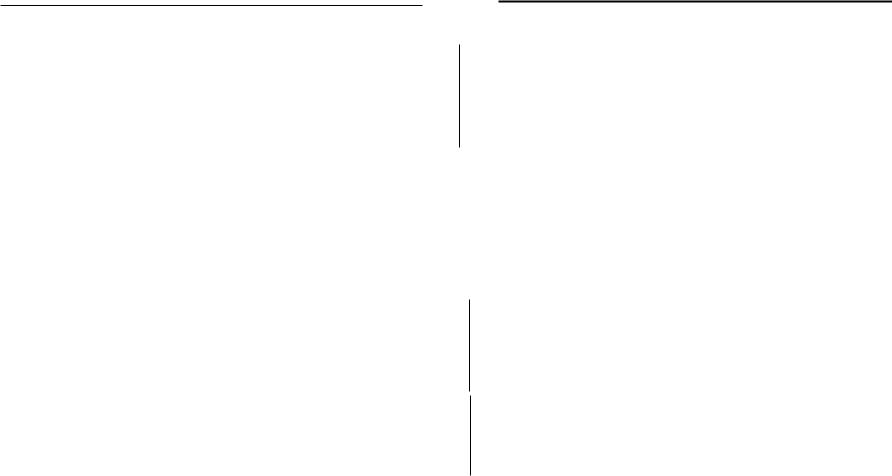
Мудрость сострадания, мудрость любви
ние годится лишь ДЛЯ объектов, вещей; философия же ни в каком слу чае не может рассматриваться под таким углом зрения, ибо она есть в определенном смысле опыт, я бы сказал - почти авантюра духа, дер зание в рамках гораздо более широкой авантюры, каковой является человеческая мысль в целом, или даже в лоне чего-то, что, быть может, трансцендентно по отношению к этой авантюре, в том случае, когда это проявление Духа и Глагола, когда это теофания.
Но, с другой стороны, то, что было сказано в первой части насто ящего текста (при условии, что это верно понято), ведет к понима нию и того обстоятельства, что философия мыслима не иначе как в зависимости от определенной потребности. История философских доктрин - это в значительной мере еще недостаточно изученная ис тория потребностей человеческого духа. Эти потребности должны быть в действительности соотнесены с масштабными конкретными ситуациями, которые способствовали их пробуждению. К тому же
здесь перед нами исключительно сложный тип взаимоотношений
который философская рефлексия должна осветить со всей точнос
тью. Действительно, было бы бессмысленно утверждать, что та или иная ситуация способна сама по себе породить потребность. Мы не имеем здесь дела с причинным отношением (как, впрочем, и в куда более простом случае, когда констатируется, например, что данная почва благоприятствует произрастанию такого-то вида растительно сти больше, чем другого. Глагол «благоприятствовать» здесь прикры вает исключительно сложный узел отношений).
В этих условиях обманчивое представление о выборе, направлен ном на идеальные объекты, нужно заменить идеей совершенно другого рода, а именно: представлением о различных уровнях, на которых реф лексия движется в зависимости от одушевляющей ее потребности. Так, например, философия, сосредоточенная на потребностях человека, личности как таковой, станет критиковать марксизм не обязательно в качестве метода, - так как очевидно, что марксистский метод, прило женный к строго определенным сферам, может быть плодотворным, - но в его претензии быть тотальным, конечным объяснением жизни и истории, показывая, что он не способен даже в малейшей степени на
них ответить, что ему остается их только игнорировать.
В этой заключительной части я попытаюсь показать, какой мне ви дится та философская потребность, которая, по моему убеждению, специфическим и настоятельным образом заявляет о себе в нашу эпо ху. При этом я отнюдь не скрываю, что говорю только от своего имени: но я прошу вспомнить сказанное мной в начале о том, что нет и не мо жет быть философской рефлексии без личной позиции. Таким образом, я адресую свое обращение тем, кто более или менее явно движим той же потребностью, которую я сейчас хотел бы определить. Что же касается остальных, надо будет, чтобы они достаточно разобрались в этом, что-
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
бы спросить себя, возможно ли для них полностью отвергнуть ее или абстрагироваться от нее. Это значит, что ответ только и может, и должен быть личным, но что в то же время он касается вопросов, трансценден тных по отношению к чистой субъективности, если последняя сведена
к простым способам чувствовать, желать или не желать.
Итак, вначале следует отправляться от общего и углубленного описа
ния той ситуации, в которой сегодня находится человечество, или по
меньшей мере западная часть его - предмет наших наблюдений. Я воспроизведу здесь страницу одного из моих сочинений, датируемого 1933 г.', где, однако, мне сегодня нечего ни вычеркнуть, ни изменить:
«Современная эпоха характеризуется, на мой взгляд, тем, что по
нятие функции вышло, если можно так выразиться, из своей орбиты: слово "функция" я беру здесь в самом общем смысле, подразумевая
и жизненные, и социальные функции человека.
Индивид начинает казаться самому себе и другим простым конг ломератом функций. В силу исторически глубинных причин, которые пока мы можем уловить лишь отчасти, индивид оказался вынужден ным относиться к себе как к совокупности функций, иерархия кото рых, однако, кажется ему сомнительной, поскольку ее обоснования
носят самый противоречивый характер.
Функции биологические, прежде всего: нет нужды подчеркивать роль, которую в этой редукции могли сыграть, с одной стороны, ис торический материализм, с другой - фрейдизм. Затем - функции социальные: функции потребителя, производителя, гражданина и т.д.
Теоретически между теми и другими, разумеется, есть место пси
хологическим функциям. Но легко убедиться в существовании тен
денции неизменно интерпретировать психологические функции либо в связи с БИОЛОГИ'lескими, либо в связи с социальными функциями;
их автономия будет хрупкой, их специфичность станет оспариваться. В этом смысле то, что Конт отказался отвести психологии место в
своей классификации наук, было своего рода пророчеством.
Мы здесь еще целиком в сфере абстракции; однако в этой области пе реход к самому конкретному совершается с исключительной легкостью.
Мне часто случается задаваться тревожным вопросом о том, чем
может быть жизнь или внутренний мир, например, служащего метро, человека, который отворяетдвери или компостирует билеты. Прихо
дится признать, что одновременно и в нем самом, и вокруг него все словно соревнуется в том, чтобы довершить отождествление этого че ловека с его функциями: я говорю не только о его функции служаще го, или члена профсоюза, или избирателя, я говорю также о его жиз ненных функциях. Страшное по существу выражение "использование времени" здесь обретает реальные черты. Столько-то часов должно
быть отведено такой-ТО функции. Сон - это тоже функция, которую д6лжно отправлять, дабы иметь возможность отправлять другие фун-
250 |
251 |
|
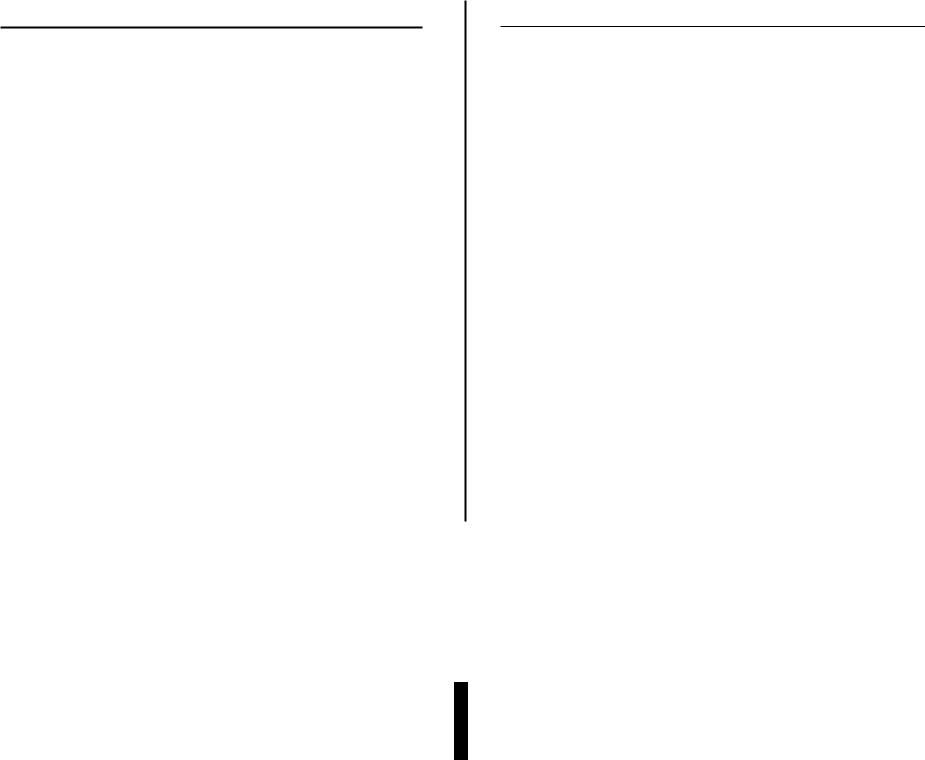
Мудрость сострадания, мудрость любви
кции, То же и в отношении досуга, реабилитации. Врач-гигиенист
и это вполне в порядке вешей - говорит о пациенте, которому тре
буется столько-то часов в неделю на развлечения. Дело касается пси хоорганической функции, которой, я полагаю, так же нельзя пренеб регать, как, например, половой функцией. Нет нужды продолжать; этих примеров вполне достаточно. Мы видим, как проступает во всем этом идея таблицы для жизни, детали которой, разумеется, варьиру ются в зависимости от страны, климата, рода занятий людей и т.д. Но главное - сушествование такой таблицы.
Конечно, подчас дают о себе знать факторы нарушения порядка;
что-то отказывает; таковы несчастный случай в самых различных сво их формах, болезнь. Отсюда - явление, очень распространенное в Америке и, думаю, в России: индивид, словно часовой механизм,
подвергается периодическому освидетельствованию. Клиника высту
пает одновремеuнно в качестве контрольного пункта и ателье по ре монту. Все с тои же функциональной точки зрения рассматриваются
сущностные проблемы, как, например, проблема рождаемости. Что же касается смерти, то, рассматриваемая с позиций объектив
ности и функциональности, она выступает как выход из употребле
ния, провал в непригодностъ, как абсолютный дефект, брак».
Мне кажется, трудно отрицать, что этот мрачный диагноз с каждым днем оказывается все более точным и, как я писал тогда в продолжение его, «помимо печали, Вызываемой этим зрелишем у того, кто его наблю дает, есть еше глухая, невыносимая тоска, ошущаемая тем, кто обречен
жить так, словно его жизнь действительно растворилась в его функциях...
ЖИЗНЬ в мире, сосредоточенном на идее функции, подвержена отчаянию, она п:реходит в отчаяние, потому что на самом деле этот мир пуст, он поль~~ внутри; ес~и она противостоит отчаянию, это лишь в той мере, в какои в лоне этои экзистенции и во благо ее действуют некие скрытые
силы, которые она не в состоянии помыслить либо распознать».
В перспективе, в которой я хотел бы развернуть свое исследование сегодня, особенно важна последняя фраза: развивая эту мысль, мож
но дать определенный ответ на поставленный в начале вопрос.
Чт~.может философия, чего мы можем ожидать от нее в пережи
ваемыи нами момент истории? Прежде всего, вынести диагноз, один из элементов которого, на мой взгляд, очень существенный, я вам представил: речь должна прежде всего идти об опасности детумани зации, заключенной в интенсивном развитии техники в нашем сегод
няшнем мире. Далее: со всей возможной отчетливостью осознать глу бокое, чаше всего не находящее себе выражения смятение, которое
испытывает человек в этой технической либо бюрократической сре де, где наиболее глубокое в нем не только игнорируется, но постоян
но попирается; помимо того, на путях исключительно бережного, трудного поиска стремиться определить те скрытые силы, о которых я
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
только что упоминал. Что это за силы? Им очень трудно дать название, прежде всего потому, что здесь мы оказываемся в сфере, где слова слишком часто истерты, обезжизненны. В самых общих чертах могу сказать, что силы эти - словно излучение бытия: и именно на бытие, как это было очевидно всем великим философам прошлого и как и се годня утверждает Хайдеггер - во многих отношениях наиболее глубо кий философ Германии, а возможно, и Западной Европы, - именно на бытие, повторяю, должна быть направлена мысль философа.
Но, спросите вы не без беспокойства, когда вы говорите о бытии как таковом, не находите ли вы себе тем самым прибежище в абст ракции, лишенной всякого конкретного смысла? Я полагаю, следует ответить, что на самом деле бытие - это именно противоположность абстракции, и, однако, на уровне языка природа его почти неизбеж но бывает искажена и понятие сливается со своей противоположно стью. В этом - главная трудность, и здесь - причина того, почему в работе, из которой я заимствовал свои цитаты и которая занимает центральное место среди моих сочинений, я настойчиво проводил идею того, что я называю «конкретным приближением». Это означа
ет, что мы не можем, как я полагаю, в некотором роде «утвердиться»
В бытии, обладать им, как не можем и видеть источник излучения света. Все, что мы можем видеть, - это зоны, озаренные этим светом. Это сопоставление бытия и света, на мой взгляд, крайне существен но, и вряд ли есть необходимость обрашать ваше внимание на то, что оно созвучно здесь евангельскому тексту от Иоанна: «Свет, который озаряет всякого являюшегося в этот мир». В другой своей книге я го ворил о свете, который есть Радость быть светом и которому челове ческое существо в качестве такового причастно, без чего оно опусти лось бы на уровень животного или ниже его.
Здесь я предвижу последнее возражение, на которое хотел бы сра
зу же ответить.
«Не совпадает ли этот философский ответ, - скажут мне, вне вся кого сомнения, - с ответом религии? Здесь не очень-то видна грань, которую Вы можете провести между философией и религией».
Вопрос очень важен, и я бы на него ответил следующим образом. Я глубоко верю, что существует и должно существовать неявное со впадение философии и религии, но я полагаю также, что инструмен
ты, которыми пользуются в том и в другом случаях, совершенно раз
личны. Религия действительно не может опираться ни на что иное, кроме Веры. И напротив, я считаю, что инструмент философии - это рефлексия, и должен признаться, что философские учения, претен
дующие на то, что они строятся на интуиции, всегда вызывают во мне недоверие. Но я стремился показать, что рефлексия может предста вать в двух различных, взаимодополняющих формах; одна из них - чисто аналитическая, редуцирующая: это рефлексия первой ступени;
252 |
253 |

Мудрость сострадания, мудрость любви
другая же, напротив, имеет тенденuию ее восполнить или, иначе го воря, быть синтезирующей мыслью: именно эта рефлексия имеет опору в бытии - не в интуиции, а в уверенности, полностью слива ющейся с тем, что мы зовем нашей душой.
Глава П
Ответственность философа в современном мире
Дебаты, которые велись с конца Второй мировой войны, зачастую в
противоречивых условиях, вокруг понятия ангажированной филосо
фии, еще нельзя считать завеРШИВШИi\lИСЯ. Возможно даже, что се
годня они серьезнее, чем когда-либо, особенно во Франции, когда
уже поневоле задаешься вопросом, не идет ли речь о самом существо
вании философии. Что я имею в виду? Что существование филосо фии, - я надеюсь суметь это показать, - может быть признано лишь
в том случае, если будет установлено, что она налагает действенную ответственность в ситуации беспрецедентного кризиса, свидетелями которого мы являемся вот уже четверть века.
Проблема, на которой я собираюсь сосредоточить внимание, об наруживается с того самого момента, как мне приходится задать себе вопрос: могу ли я быть уверен, что мои читатели или слушатели вкла дывают в слово «философь тот же смысл, 'по и я? Или, глубже: что в
моем сознании, для меня самого это слово совершенно свободно от двойственности?
Остановимся сначала на первом изэтих вопросов. Опыт нам неопро вержимо показывает, что слово «Философ» берется в совершенно различ
ных значениях в большей части англосаксонского мира и там, где после Гуссерля и Шелерастала быстро распространяться феноменология.
Очевидно, будет нетрудно показать, что в прошлом мы найдем в
HeKOT~POM~отношении схожие оппозиции. В конце прошлого века англиискии неогегельянец, например, говорил не на том языке, ка ким пользовался его коллега, эмпирик, сформировавшийся в школе ассоцианистов и Спенсера. Это неоспоримо, хотя бы даже по этому
поводу можно было заметить, что элемент истины наличествовав ший в ассоцианизме, затем вполне мог быть использован в синтезе
какой мы видим у Брэдли, И тем не менее я мог убедиться, например: на Конгрессе в Лиме в 1951 г. в беседе с Альфредом Айером, делега
том от Британии, что когда я говорил о философии рефлексии, эти термины, имеющие во Франции, безусловно, почтенную традицию,
для него ровным счетом ничего не значили. Позже, общаясь со сту дентами Гарварда, я вынужден был констатировать, что их препода ватели философии, во всяком случае большинство из них, отговари
вали их искать связь между философией, почти исключительно
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
аналитической, пользованию которой должно было способствовать обучение, - и жизнью, проблемами, которые жизнь ставит перед каждым из нас и которые, видимо, в их глазах относились к сфере произвольного выбора, никак не соотносимого с философией.
Конечно, и этому можно найти прецеденты. Но что придает совре менной ситуации ее собственный, особый характер, так это, кроме всего прочего, тот факт, что отрасли знания, которые вплоть до нача ла века рассматривались как составная часть философии - социология
и психология, разумеется, но также и логика, - в настоящем претен
дуют не просто на автономию, но на радикальную независимость.
В этих условиях собственно философия, к несчастью, рискует вы глядеть остатком; ее не сбрасывают со счетов, но всего лишь терпят в силу традиций, к которым к тому же все меньше и меньше почте ния. У людей, солидно устроенных в жизни, но которые при этом не без умиления взирают на далекие годы своей учебы, часто можно встретить идею о том, что философия - это своего рода интеллекту альная игра, гимнастика, делающая мысль гибкой, что хорошо иметь за плечами некоторый опыт подобных упражнений, не питая при
этом иллюзий по поводу ее подлинного значения.
Что до меня, то я бы сказал, что если философию ждет такая участь, то лучше желать ее исчезновения. Если она всего лишь игра, то недоста точно сказать, что она - вне жизни, реально и всерьез прожитой; она, кроме того, рискует казаться обманом, ибо всегда выступает с претензи ями, которые могут вводить в заблуждение юные умы и которые в при нятом нами случае должны были бы быть рассматриваемы как лживые. Со своей стороны, скажу без колебаний, что философия, если она не име ет резонанса в нашей жизни, сегодня оказавшейся под угрозой во всех отношениях, лишена значения и не представляет ни малейшего интере са. Однако надо пойти дальше и сказать, что сам этот резонанс зависит от позиции, которую философия занимает относительно истины.
В самом деле, не декларировал ли несколько лет тому назад патен тованный философ Сорбонны, пользующийся непререкаемым авто ритетом, в предназначенной для начинающих студентов телевизион ной беседе, что понятие истины обретает вполне определенный смысл только в науках? Высказаться подобным образом - значит по просту провозгласить отставку философии. Обращаясь сегодня к про шлому, мы можем заметить, что среди великих философов нет, по видимому, ни одного, кто в своем учении отказал бы истине вправе гражданства. Даже такой иррационалист, как Шопенгауэр, вне вся кого сомнения, полагал, что в глубине вещей он открыл истину.
Единственное исключение, вероятно, скорее, внешнее, чем действи
тельное, составляет Ницше, в той мере, в какой его философия может
показаться определенным образом обретающейся не только по ту сто рону добра и зла, но и по ту сторону истинного и ложного. Однако та-
254 |
255 |
|

Мудрость сострадания, мудрость любви
кая философия может считаться состоятельной лишь в том случае, если
она несмотря ни на что, признает, что определенный тип истины, ска
жем, к примеру, научная истина, должен быть превзойден; но разв~ это
траисцендирование не ведет неизбежно к восстановлению высшеи ис тины, несводимой вдобавок к тому, что мы обычно обозначаем этим словом? Вообразить, что можно уйти от этой необходимости, - значит вступить на путь, где человек оказывается во власти бреда. Есть основа ния думать, что в этом свете безумие Ницше - это не просто событие, относящееся к компетенции медицины, но что оно несет в себе смысл,
что оно в действительности связано с нарушением запретного.
Однако здесь следует предусмотреть законный вопрос. «Когда Вы говорите о философе, - скажут мне, - имеете ли Вы в виду филосо фа вообще или, скорее, кого-то определенного, с кем Вы ощущаете внутреннюю близость? И если верно именно последнее,:о каким об разом Вы могли бы избежать субъективизма? С другои стороны - есть ли смысл говорить о "философе вообще?»?
Надо признать, что это вопрос существенный и нельзя его оста вить без ответа. Я должен прежде всего особо подчеркнуть, что речь идет о философе в сегодняшнем мире, т.е. в определенном контексте, от которого невозможно абстрагироваться. Но совершенно очевидно, что этого замечания еще недостаточно. Следующий важный вопрос: имею ли я в виду, говоря о философе, того, кого можно назвать nро фессиональным философом, - и вот мы снова в затруднении, посколь ку проблематична сама эта профессионализация: возможна ли она
без внутреннего противоречия?
Когда мы говорим о профессиональном философе, перед нами встает образ философа дипломированного, которому тем самым дано право преподавать в официальных или приравненных к ним заведени
ях; однако, если подумать, трудно отделаться от какого-то чувства не ловкости, вызываемого мыслью о «дипломе по философию> И об усло виях, при которых такой диплом может быть выдан. Эта неловкость связана с ощущением - не скрою, вначале смутным - противоречи
вости которое надлежит проанализировать и прояснить. Итак: разве, произнося слово «философ», не имеем мы в ВИДУ свободный по сути
поиск, которому отдается тот, кто его задумал? Нет ли противоречия
в том, что при этом должен мыслиться некий штемпель, которым удо стоверяется извне, допустим, не поиск, но лицо, которое собирается
посвятить себя этому, - штемпель, долженствующий подтвердить eг~ правомочность? Но применимо ли здесь понятие правомочности; Объявить правомочным, законным, - но во имя чего и исходя из чего. И пойдем дальше: какого рода может быть авторитет тех, кто выдает подобные удостоверения? Ведь философия совершенно очевидным образом отличается от специализированных отраслей знания, для ко торых не существует вопросов подобного рода. Кандидат в преподава-
г.Марсель. В защиту трагической мудрости
тели кафедры математики или истории может единодушно рассматри ваться как выдержавший испытания, установленные математиками или историками, и таким образом полномочные лица могут на закон ной основе признать и затем объявить, что данный кандидат действи тельно способен передавать другим знания, которыми он обладает.
Однако нетрудно заметить, что там, где речь идет о философии,
ситуация совершенно иная.
Конечно, можно попытаться ввести здесь различие между фило софом в собственном смысле, т.е. философом-исследователем, и пре подающим философию и сказать, что испытания, итог которым под водит отмеченная мной процедура «штемпелевания», должны лишь определить, обладает ли кандидат достаточным багажом знаний и спо собен ли он передать их другим. С этим можно согласиться, только если сразу же оговорить, что понятие багажа в данном случае весьма двусмысленно и что преподавание философии, сводяшееся к подоб ной передаче, на самом деле ни в какой мере не отвечает требованию, которому оно должно было бы удовлетворять. В философии гораздо менее важно преподавать, нежели пробуждать, - но опыт безуслов но говорит о том, что официально установленные экзамены лишь редко и самым приблизительным образом позволяют выявить, обла дает ли кандидат этим важнейшим качеством.
Итак, мы должны признать, что в самом понятии преподавателя философии есть нечто амбивалентное по сути, настолько, что можно всерьез задаться вопросом, не является ли акт, выражаемый словами сделать своей профессией.., в каком-то роде несовместимым с тем наи более интимным, что есть в этом призвании. Когда мы говорим о фи лософе, мы должны сделать акцент именно на понятии призвания; при этом приходится согласиться, что точный смысл этого призвания не легко определить, если мы, как подобает, станем проводить различие между ним и призванием преподавателя вообще; при этом я оставляю в стороне трудный вопрос о том, достойно ли призвание собственно
преподавателя этого наименования и так же ли оно определенно, как,
например, призвание врача, священника или даже инженера.
Что здесь важно видеть, на мой взгляд, - это что философствова ние не есть нечто предпринимаемое исключительно для себя, имен но - с целью выйти из состояния неопределенности или смятения
путем достижения некоторого внутреннего равновесия, которым сам субъект мог бы удовлетвориться. Напротив, скорее, все происходит так, словно философ разделяет, берет на себя беспокойство или тре вогу других людей, которых он не знает лично, но с которыми ощу щает себя связанным узами братства.
<... > Можно без колебаний утверждать, что У истоков философско го поиска всегда было удивление, определенный способ не принимать за «само собой разумеющееся», не признавать «совершенно естествен-
256 |
17 - 34Зб |
257 |

Мудрость сострадания, мудрость любви
ным» данное, с которым будущий философ имеет дело. Думаю, это слишком очевидно, чтобы на этом настаивать. Но вот что менее ясно, - и я, таким образом, возвращаюсь к сказанному выше, - это то, что по добное сомнение неизменно выступало как направленное на некую ис тину, которую предстоит открыть. Правда, слова «некая истина» здесь не вполне уместны: фрагментарные истины, которые возможно обосо бить одну от другой, относятся к науке, а не к философии; скорее, речь всегда идет об истине, но с момента, когда рефлексия достигла опреде ленного уровня, вопрос относится уже к самой истине: этим я хочу ска
зать, что с данного момента мы задаемся вопросом о значении самого этого слова одновременно с вопросом об условиях и пределах, в кото рых может быть удовлетворено стремление к истине.
Я хотел бы со всей ВОЗМОЖНОй точностью ответить на следующий затруднительный вопрос. Когда я, философ, говорю о философе - говорю ли я о самом себе? По-видимому, одно из двух: либо я дей ствительно имею в виду себя - и в этом случае смешон невольный
маскарад; или же я исхожу, напротив, из констатации различия, но в таком случае трудно понять, каким образом я соотношу себя с этим философом, которым, согласно моему утверждению, я не являюсь, Здесь явно есть дилемма, от которой не уйти. Я полагаю, что, невзи рая ни на что, мне следует принять вторую позицию. Итак, я говорю не о себе. Но в этом случае я должен признать, что от меня требует ся - а также, если угодно, мне дано - мыслью превзойти то, что я мог, или мог бы еще сейчас, осуществить. В общем и целом я должен актуализировать в уме учения столь различных философов, в среде которых я мыслю себя, однако без претензий сравняться с ними.
Одна из трудностей, с которыми я сталкиваюсь, - в том, что тщетно пытаться найти для этих мыслителей общий знаменатель, пусть даже чисто формальный (это разве что - позиция личной ан
гажированности в отношении истины или, точнее, в отношении ори ентированного на истину поиска).
Но теперь мне следует приложить это к предмету нашей беседы, а именно: когда я говорю об ответственности философа, мыслю ли я себя, свою ответственность? Боюсь, что здесь придется ответить од новременно и «да», И «нет». Поскольку Я помещаю себя в круг фило софов, я никоим образом не могу «устраниться» из того, что собира юсь сказать. Но в то же время, поскольку я осознаю собственную недостаточность и своего рода неверность, по-видимому, неизбеж
ную, призванию. которое превосходит мои личные возможности, я, быть может, должен буду утверждать то, что, как я, к несчастью, знаю, сам я полностью выполнить не могу. Итак, здесь остается не кая область невосполнимого: признать это - значит в то же самое время решительно признать, до какой степени всякая гордость или
высокомерие мне воспрещены уже по определению.
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
Очевидно, ввиду того, о чем речь пойдет в дальнейшем, здесь я дол жен добавить, что, по-видимому, я принципиально не способен про вести жесткую грань между тем, что я мыслю как философ, и тем, что я говорю как не-философ, хотя, конечно, я обязан делать все возмож ное, чтобы достичь здесь большей ясности, более строгого различения.
Эта долгая преамбула была необходима, как мне кажется, дабы очертить условия, в которых ставится проблема ответственности фило софа; проблема сложная, разумеется, однако надо признаться, что эти посылки были словно запутаны в угоду определенного типа экзистен циализму; ниже мы будем иметь возможность убедиться в этом.
Первый вопрос, неизбежно возникающий, - в том, чтобы спро сить себя, перед кем ответствен философ; и если предположить, что
на этот вопрос невозможно ответить, то в этом случае сохраняет ли слово «огвегсгвенность» значение, сколько-нибудь поддающееся оп ределению? Возьмем здесь крайний случай, каковым является тота литарное государство, будь то нацистская Германия или Россия Со ветов. Здесь попрос об ответственности на самом деле совершенно ясен: философ ответствен перед обществом и, точнее, в двух рассмат риваемых случаях, перед единственной партией и теми, кто являет
ся ее детищем, кто кичится, что является единственным хранителем истины, как бы ни назывался новый Коран, в котором она сформу лирована: «Капитал» или «Мегп Kampf».
Однако мы не можем не заметить тут же, что философ, который таким образом подчиняется порядку, исходящему от «высшей влас ТИ», преступает тем самым условие философского поиска, которое должно считаться нерушимым: это условие - независимость. Следу ет, не колеблясь, обвинить в отступничестве философа, который ста вит себя на службу псевдоистине, объявленной абсолютной. Здесь мы сталкиваемся с определенной «транспозицией» того, чем мог быть несколько веков назад теологический догматизм, однако эта транспо
зиция происходит в условиях, значительно ее отягчающих, посколь ку этот новый догматизм не может претендовать на то, что он осно вывается на чем-либо, напоминающем Откровение.
Однако, сделав акцент на независимости как отличительном свой стве философского исследования, не избавляем ли мы тем самым философа от всего, что может быть рассматриваемо как ответствен ность? Нет ли здесь тенденции к опасному сближению ситуаций фи лософа и художника? Ведь в конечном счете трудно согласиться с
тем, что на живописца или композитора как таковых возлагается от ветственностъ: какого рода она могла бы быть?.
Здесь естественным образом напрашивается возражение: «обще ство» не обязательно означает «тоталитарное государство». Нельзя ли мыслить ответственность философа перед лицом такого сообщества людей, взятого в более широком смысле, тем самым - более совме-
258 |
17' |
259 |

Мудрость сострадания, мудрость любви
стимого со свободой. которая должна быть у истоков всякой рефлек сии, достойной этого названия?
Однако надо ответить на это, что слово «общество. само по себе чрез вычайно расплывчато. Общества «вообще» не существует. Какое обще ство имеется в виду? Речь может идти лишь об определенном обществе, к которому философ принадлежит, в частности, как гражданин, как при верженец той или иной конфессии и т.п. Рассмотрим конкретный случай: ответствен ли философ перед страной, государством? Попытаемся по нять, что кроется под этими, казалось бы, ясными словами. Мы не замед лим обнаружить здесь узел противоречий. Возьму для примера конкрет ный случай, представший перед нами недавно при очень горестных обстоятельствах. Должен ли был философ воздержаться от разоблачения массового применения французской армией пыток в ходе войны в Алжи ре? Я считаю, что с этим невозможно согласиться. Допустим - что, ко нечно, просто-напросто неверно, - что руководители французской ар мии считали эти методы необходимыми для победы в войне: следовало ли в таком случае видеть в этих военачальниках уполномоченных представи телей своей страны? Согласиться с этим очень рискованно. Но, с другой стороны, публично дисквалифицировать этих руководителей - не озна чало ли бы это сыграть на руку неприятелю, оказаться некоторым обра зом повинным в измене? Проблема действительно серьезна и вызывает тревогу. Но, мне кажется, нужно без колебаний признать, что философ, достойный этого имени, должен был прийти к выводу, что Франция, при бегающая к таким средствам, в каком-то смысле перестает быть Франци ей, иными словами, перестаетдемонстрировать верность определенному призванию, которое лучшие умы всегда считали уделом ее народа. Так не следует ли сказать в таком случае, что ответственность должна была быть проявлена по отношению к этой Идее, а не по отношению к некой фак тической власти, о которой мы вправе сказать, что она предала Идею?
Однако не следует игнорировать трудности, связанные с таким подходом: что касается меня, то, публично высказавшись против применения пыток, я в ту пору возражал против манифеста, подпи санного широкими кругами интеллигенции, который мне казался равносильным призыву к дезертирству. Надо сознаться, что здесь мы - на острие ножа, и очень трудно определить, в какой момент долг изменяет свою природу и признаки.
Во всяком случае, мне кажется, что нужно отбросить возражение, заключающееся в тезисе, согласно которому тот, кто понимает ответ ственность так, как я ее определил, позволяет совершенно субъектив ному мнению, простому личному предпочтению взять верх над не зыблемым долгом, а именно - уважать законы страны.
В действительности здесь заново встает главная проблема платонов ской этики, и здесь мы вновь сталкиваемся с дилеммой, которая в «ГОРГИИ», например, приводит к спору между философом и софистом.
Г. Марсель. В защиту трагической мудрости
Несколько лет тому назад я попытался показать, что между исти ной и справедливостью сушествует неразрывное единство, что погре шить против истины - значит погрешить против справедливости, и наоборот. В этом отношении нет более разительного примера, чем пример людей, которые в 1898 г., в условиях риска, заняли позицию в защиту Дрейфуса против официальной истины, которая на повер
ку оказалась ложью.
Мне скажут, что эти люди не были философами. Но здесь важна по зиция, какая подобает философу, конкретно, перед лицом того, что со ставляло сущность ситуации, сложившейся вокруг Дрейфуса. Скажу, не колеблясь, что только софисты могли тогда выступить с осуждением.
Мне кажется совершенно ясным, - и в этом вновь звучит лейтмо тив настоящего очерка, - что великодушие должно быть отличитель ным признаком философской мысли, заслуживающей этого назва ния. Вуалированию этой истины способствует то, что в великодушии
мы склонны видеть род словесного и, разумеется, эмоционального
кипения, столь свойственного идеологам. Речи нет, дистанция меж ду философом и идеологом должна быть сохранена любой ценой. Столь часто бросающийся в глаза недостаток идеологов относится прежде всего к области упорядочивающей и критической мысли; од нако философ должен неукоснительно соблюдать ее предписания. Это означает, что великодушие должно оставаться сопряженным с определенным благоразумием, тем благоразумием, которое, как учит моральная теология, является такой же добродетелью, как и смелость.
Однако может возникнуть вопрос: характерна ли описанная выше ситуация хоть в какой-то мере для того, что я назвал современным ми ром? На этот вопрос, по-моему, нельзя ответить односложно. Условия, в которых развернулось «дело Дрейфуса», могут показаться преодолен ными или сильно изменившимися, по крайней мере в странах западной демократии. В самом деле, ведь они предполагают существование дис кредитированной ныне милитаристской касты. И все же меня смущает довольно поверхностный характер такого заключения. Во-первых, то, что мы наблюдаем во многих странах, показывает, что эта каста может возродиться перед лицом не только конфликта, но даже угрозы его. Но, главное, было бы очень большой ошибкой думать, что такая каста
единственное, что может угрожать справедливости и истине, этим цен
ностям, которым философ должен оставаться глубоко приверженным. Достаточно вспомнить о том, что происходило в восточных странах в сталинскую эпоху и даже, в меньшей степени, после, чтобы понять, ка кую опасность представляет победа одной партии, какой бы она ни была, если эта партия приходит к абсолютной гегемонии.
Недавно я в другой связи писал, что демократию сегодня, без сомне ния, следует рассматривать как единственно возможный способ суще ствования общества, невзирая на аберрации, всякий раз принимающие
260 |
261 |
