
из электронной библиотеки / 382457152241841.pdf
.pdf
локальное восприятие и исчисление времени. Такой отчет практиковался в генеалогиях, родовых сказаниях, сагах»43. Эти варварские хронологии очень органично привязывались к христианской сакральной хронологии и обладали линейностью восприятия времени, создавая специфический историзм мировосприятия средневекового европейца. Интересно отметить, что в сознании римлян мы находим своеобразную историческую линейность времени римской цивилизации и государственности44, которая предшествовала христианской линейности, влияла на нее (через Августина) и соединялась с «родовой», эпической линейностью варварских саг и хронологий в неповторимом средневековом историческом дискурсе.
Это родовое время дополнялось тем «вторичным мифологизмом», уходящим в глубины индоевропейской общности всех народов, эллинов и римлян, германцев и кельтов, славян и армян, и т.д., который наиболее полно был представлен в мифоэпическом сознании греков и римлян, а во многочисленных переработках в литературе, истории, философии, риторике позже стал культурным достоянием всех «христианских народов». Этот мифологический пласт первоначально был достоянием в основном интеллектуальной элиты, но постепенно проник и в народную культуру и религиозность средних веков. На наш взгляд, это родовое эпическое время, которое в соединении с христианской линейностью и историзмом литературным вошло в органическую ткань европейской культуры, до наших дней определяет острую мирскую историческую память европейцев (сохранились не только семейные хроники и генеалогии дворянские, но и купеческие, и крестьянские), которая – увы! – у нас так, в России, и не сформировалась.
Эти субкультурные концепты времени, выделенные нами вне христианского контекста, носили, разумеется, мирской характер, были временем повседневности. Имеется искушение их изъять из христианского религиозного контекста. Но это было бы ошибочной модернизацией, так как христианская вера тотально подчиняла себе не только сферу духовного производства и идеологии, но и сферу повседневности. Исследователи выделяют церковное время, время клириков, которое доминировало в культуре той эпохи. Ценности христианства и вера в Бога у средневекового человека стали «постулатом, настоятельнейшей потребностью всего его видения мира и нравственного сознания»45. Церковное время вступало в сложные взаимоотношения с экзистенциальным временем повседневности, временем рождения и смерти, труда и отдыха. Так, общеизвестным местом в науке является тот факт, что во всех христианских странах церковные
43А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. – М, 1984. – С. 109.
44См.: Культура Древнего Рима. В 2-х т. Т.II. – М., 1985. – С. 135-166. Имеется интересное исследование, в рамках которое объясняется специфика «нашего времени» христианства и политического времени христианской империи, восходящие в определенной мере к имперскому времени римлян: А. Кириллов. Византия: политика и наррация в условиях нестабильности // Логос. – №4-5 (39). – 2003. – С. 206-218; А. Кириллов. «Наша эра»: В поисках присвоенного времени // Логос. – №5 (44). – 2004. – С. 169-177.
45А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. – М, 1984. – С. 19.

праздники были приурочены к языческому календарю, связанному с годичными природными и земледельческими циклами.
А.Я. Гуревич отмечает: «Год начинался в разных странах не в одно и то же время: с рождества, со страстной недели, с благовещения. Соответственно отсчет времени велся по числу недель до рождества и после и т.д. Долго богословы противились тому, чтобы считать новый год от 1 января, так как это был языческий праздник; но 1 января – также и день обрезания Христа»46. К примеру, Церковь полностью контролировала весь хронотоп вступления в брак, освящая его: заключение контракта, помолвку, самую брачную церемонию, регламентировала всю жизнь индивида и семьи, вплоть до интимной, и взяла на себя обязанность наблюдать за нравственностью семейной жизни47. Эти взаимопревращения светско-профанного и священного хронотопов христианства можно проследить на примере символики рождения и смерти48. Церковные праздники рассматривались как основные вехи времени, как границы погодных периодов, как определяющие пункты начала и конца сельскохозяйственных работ – и тем самым человеческая повседневная жизнь как бы втягивалась в сакрально-временной ритм. Важнейшие праздники были связаны с воспоминанием об отдельных событиях сакральной жизни Христа и Богородицы: отмечалось Рождество и Обрезание Христово, Сретение и Крещение, Преображение, Воскресение и Вознесение Спасителя; отмечалось Рождество и Успение Богородицы, а также Благовещение и день сошествия Святого Духа на апостолов. Недели были связаны с отдельными эпизодами евангельского предания (например, неделя Жен-мироносиц), дни – со святыми христианской церкви и даже часы дня, отбиваемые би́лом в церквях и монастырях, объявлялись церковью применительно ко времени молитв49.
Всякие попытки выйти из-под церковного контроля неукоснительно пресекались: Церковь запрещала трудиться в праздничные дни, занимавшие более трети времени в году, причем соблюдение религиозных запретов представлялось ей более существенным, нежели получение дополнительного количества, например, продуктов питания (что было существенно для человека средневековья). Церковь определяла состав пищи, которую можно было принимать в те или иные отрезки времени, и строго карала за нарушение поста; она освящала сексуально-интимную жизнь, предписывая, когда половая близость допустима и когда она греховна. Год расчленялся праздниками, знаменовавшими события из жизни Христа, днями святых. Для основной массы населения главным ориентиром суток был звон церковных колоколов, регулярно призывавших к заутрене и другим службам. Сутки делились на ряд отрезков – канонических часов, обычно их было семь, и обозначались они боем церковных часов. Различали «колокол жатвы», «колокол тушения огней», «колокол выгона в луга».
46Там же. – С. 114.
47Подробнее см.: Л.Я. Ястребицкая. Западная Европа XI-XIII веков. – М., 1978. – С. 88.
48См.: Ж. Дюби. Европа в средние века. – Смоленск, 1994. – С. 280-296.
49См.: А.П. Каждан. Византийская культура (X-XII вв.). – СПб., 1997. – С. 120-126.

Таким образом, даже течение времени контролировалось церковью. «Колокольный звон, – как отмечал Ж. Ле Гофф, – призывающий священников и монахов к службе, был единственным средством отсчета дневного времени». Важной чертой ментальности средневековья было то, что «литургический год воспринимался как последовательность событий из истории Христа, разворачивавшейся от Рождественского поста до Троицы, а кроме того, он был наполнен событиями и праздниками из другого исторического цикла – жизни святых»50. В средневековом сознании, как и в мифосознании древних, категория сакрального времени («история откровения») сосуществует с категорией земного, мирского времени, и обе эти категории объединяются в категорию времени исторического («история спасения»). «Историческое время подчинено сакральному, но не растворяется в нем: христианский миф дает своего рода критерий определения исторического времени и оценки его смысла»51. Например, год представлялся как год литургический. Здесь, в церковном времени происходило соединение вертикали сакрального времени христианства с горизонталью профанного, мирского времени, сакрального историзма с профанным родовым историзмом и их всех вместе с циклизмом мифоэпического времени – в сложную спираль единого времени средневековья.
Почти все исследователи отмечают, что у средневекового человека наблюдается острое, напряженное переживание и прошлого, и настоящего, и будущего. В античном сознании, как отмечалось выше, присутствовало преимущественно настоящее, прошлое интересовало только в зависимости от его близости к настоящему, а будущее ощущалось как нечто нежелательное и смутное. Для средневекового христианского мироощущения, даже с учетом его мифоэпической, фольклорно-архаической «закваски», характерно структурное представление линейной оси времени.
Собственно, само деление истории человечества «до рождества Христова» и «после» (после рождества Христова и его Нового Завета наступает «наша эра», «новое время») лежит в основе мироощущения человека христианского мира, западного и восточного, оно вошло не только в основные идеологемы европейского либерального и социалистического сознания (прогрессизм и т.п.), но и в категориальный аппарат европейской исторической науки. «Очевидно, – писал М.А. Барг, – что только на почве линейного времени приобретало смысл «обещание» верующему избавления от земных тягот в жизни вечной, когда время достигнет своей полноты и завершится «вторым пришествием Христа». ...То обстоятельство, что каждое «настоящее» не только отделено от конечного будущего, но пронизано им, что оно может наступить в каждый следующий миг, влечет за собой по сути открытие экзистенционального смысла»52. Это говорит о глубоко личностном измерении, о человеческой глубине христианского концепта времени, о
50Ж. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С.170.
51А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. – М, 1984. – С. 119.
52М.А. Барг. Эпохи и идеи. Становление историзма. - М., 1987. – С. 99.

сдвиге в основах не только культуры, но и самого бытия человека. Однако, и церковное время не было неким единым сакральным временем, доминирующим в дискурсе христианского средневековья.
Центром христианской культуры было и остается классическое богословско-философское наследие патристики и схоластики. Именно здесь формировались доминирующие концепты экзистенциального времени, определявшие, в конечном счете, не только содержательное ядро христианской «модели мира», но и весь смысл бытия христианина. При этом прав А.Я. Гуревич, когда отмечает: «Между тем проблема «модели мира», складывавшейся в определенном обществе и налагавшей свой отпечаток на все стороны человеческой деятельности, – это и проблема человеческой личности, отношения которой с миром и самосознание выражались в категориях «картины мира», в том числе и в категориях пространства и времени»53. И здесь доминирующее положение занимал и будет занимать Блаженный Августин, который не только новаторски поставил и решил проблему времени, но и внес новое сопряжение онтологии, гносеологии, антропологии, философии, истории и этики на теологических основаниях, которое и задает до сих спор специфику не только христианской религиозной философии, но и всей западноевропейской философии и мировоззрения.
Поэтому мы вновь не можем огласиться с П.П. Гайденко, которая при всех ее оговорках и ссылках на других авторов, все же пишет о «психологической концепции времени, созданной впервые именно Августином»54. Не было у Августина «психологизма», а была «онтологическая антропология» или «онтологическая этика» – можно какие угодно придумывать названия, но христианское богословие и метафизику невозможно втиснуть в рамки новоевропейской философии, стремящейся все время «стать наукой» и втиснуться в дисциплинарные мундиры наподобие естествознания. Как невозможно отрицать наличие в христианстве развитой философской антропологии, как это делал Н.А. Бердяев (а что уже говорить о нерелигиозных мыслителях?). Так в чем же состоит специфика патристической, христианской «антропологии»?
Надо согласиться с теми авторами, которые не выводят напрямую христианское учение о человеке из Ветхого Завета. Да, ветхозаветная антропология была органично воспринята новозаветной. Соответственно, первичная антропологическая интуиция христианства вписывалась и в споры о троичной природе Бога, и в учение о Богочеловеке Иисусе, и в учение о попрании смерти в Воскресении Спасителя и спасении человека от первородного греха, о телесном воскресении мертвых и об обетовании Царства Небесного, о преображении «ветхого человека» в «нового» и жизни будущего века. Это и дает нам право отмечать, что исходная для всей христианской антропологии трактовка человека как сотворенного по образу и подобию Божьему была воспринята всей патристикой через призму
53А.Я. Гуревич Категории средневековой культуры. – М, 1984. – С. 51.
54П.П. Гайденко. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. -
М., 2006. – С. 65.

христоцентрической концепции «обожения»55. «Обожение», сотериологический и эсхатологический смысл которого был выражен еще в тезисе Афанасия Великого «Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились», признавалось высшей целью человека и человечества. Таким образом, креационистская библейская антропология, дополненная христологической и мистико-аскетической антропологией, оказывалась отличной от пантеистического платонизма и гностицизма, от их искусительных и искусных доказательств «демократического» дуализма как Бога и материи, так и Бога и человека, души и тела человеческих, лишенных богообразности
ибогоподобной свободы56. Пересечение вертикально-иерархической духовно-мыслительной оси Ветхого Завета и учения о животворящей и единосущной Троице, в котором утверждалась категория ЛичностиИпостаси (в античности не было концепта личности, хотя эмпирическая личность была, культурно-антропологический феномен личности во всей его специфике присутствовал) с горизонтальной осью Нового Завета и учения об искупительной миссии Богочеловека Иисуса Христа мистически и духовноонтологически задавало не только новое измерение Богу и идее человека, но
ичеловеческой истории, культуре и эмпирическому индивиду. С пересечением тринитарной и дуальной структур христианского богословия, на наш взгляд, были связаны – опосредованно или непосредственно – и две основные версии православной антропологии: дуальная модель «душа-тело»
итринитарная «дух-душа-тело». Авторы, которые пишут о многомерности христианского концепта человека, его открытости и Богу, и миру, фактически позволяют нам утверждать, что и концепт времени в христианстве – в культуре и богословии – формируется как многомерный.
Выше мы писали о спиралевидности модели средневекового времени в культурно-категориальной структуре и ментальности. При этом следует отметить, что эта спиралевидность времени связана не только с субкультурной природой этого концепта, сотворчеством многих субъектов в его конституировании, но и с многомерностью христианского видения Бога,
мира и человека в отличие от эволюционистского пантеизма античной философии. Наиболее логично христианский креационизм впервые противопоставлен античной пантеистической эманации (эволюционизму) именно в учении Августина. Это связано и с августиновской трактовкой времени.
Большинство исследователей концепта времени обращались к его «Исповеди». Разумеется, это произведение было первым в жанре исповедальности, отражавшем практику одного из христианских таинств и состояний души верующего христианина, и написано столь энергичным и проникновенным словом, столь сокровенно выражало экзистенцию человека, что не может не быть созвучным духовным исканиям и интеллектуальным
55См.: Гарнцев М.А. Византийская философия // Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М., 1991. – С.138-141.
56Подробнее см.: Т.П. Бухтина, В.П. Римский. Философская антропология и воспитательнообразовательные парадигмы: от античной Пайдейи к Просвещению. – Волгоград, 2004. – С. 59-65.

размышлениям современного человека. И почти мало кто доходил до того глубинного, экзистенциального содержания христианского концепта времени, как оно дано в итоговом трактате великого богослова и религиозного философа «О граде Божием».
Уже в первой книге, размышляя о жизни и смерти человека, Августин выходит на экзистенциальный контекст проблемы времени, когда пишет, критикуя античные концепции метемпсихоза и бессмертия души и утверждая христианский принцип свободы человека: «А конец жизни один: как жизни долгой, так и короткой. Одно не лучше, а другое не хуже, или: одно не больше, а другое не меньше, коль скоро то и другое в равной мере уже не существует. И что за важность, каким видом смерти оканчивается эта жизнь, коль скоро тот, для кого она оканчивается, не вынужден будет умирать снова?... Та смерть не должна считаться злой, которой предшествовала жизнь добрая. Смерть делает злым только то, что следует за смертью. Поэтому, кому предстоит умереть, те не должны много заботиться о том, что именно с ними произойдет, от чего они умрут, а должны заботиться о том, куда, умирая, они вынуждены будут идти… Поэтому человек добродетельный, даже если он и находился в рабстве, свободен; напротив, злой, даже если он и царствовал, раб, и раб не одного человека, а что гораздо хуже – стольких господ, скольким порокам он подвержен»57. И далее следуют прекрасные, классические рассуждения Августина о Божественном провидении, судьбе, свободе воли человека и ее месте в цепи божественного детерминизма; об истинной философии, которая и есть богословие.
Именно в смерти человека (Хайдеггер здесь не первооткрыватель!), по мысли Августина, и открываются истинные смыслы экзистенциального времени: «Итак, момент, в который он является умирающим или в смерти, теряется между тем и другим; потому что если он еще живет, то находится до смерти, а если перестает жить, то находится уже после смерти. Следовательно, он никогда не представляется умирающим, то есть находящимся в смерти. Точно так же и в течение времен мы ищем настоящее и не находим его; потому что безо всякого промежутка совершается переход от будущего к прошедшему»58. Тайна экзистенциального времени, жизни и смерти, тайна вечности и времени заключена в живом, триипостасном едином Боге (а не в Едином как боге неоплатонизма и даже не в живом Боге «богоизбранного народа» иудеев), в котором онтология Бога, природы и человека сопряжены энергийно в сотворчестве: Богом природы и человека, и человеком – в познании Бога и природы.
«Поэтому Бог, – отмечает он, – сотворивший видимые небо и землю, не гнушается творить видимые чудеса на небе и на земле, посредством которых возбуждает к почитанию невидимого Себя душу, еще преданную видимым предметам; но где и когда сотворить их, непреложный совет для этого находится в Нем самом, в планах Которого все будущие времена суть
57Августин Блаженный. О Граде Божием. – Мн., М., 2000. – С. 16, 164.
58Там же. – С. 624.

времена уже существующие. Ибо, давая движение временным предметам, сам Он не движется во времени; что должно быть совершено, Он знает так же, как и совершенное; внимает призывающим так же, как видит и имеющих призывать. И когда внимают ангелы Его, внимает в них Он как в истинном, нерукотворенном Своем храме, как внимает и в святых людях Своих; во времени осуществляются Его же веления, предусмотренные Его вечным законом»59.
У Августина в трактате «О граде Божием» мы находим и своеобразный диалог с «Исповедью», когда он дает онто-антропологию концепта времени в диалектике божественного и человеческого знания, в которой и снимается «психологизм» времени. «Знание Божие отнюдь, – утверждает богослов, – не имеет такого разнообразия, чтобы в нем иначе представлялось то, чего еще нет, иначе то, что уже есть, и иначе то, что будет. Ибо Бог презирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее не по-нашему, но некоторым иным образом, далеко превосходящим образ нашего мышления. Не переходя мыслью от одного к другому, Он видит совершенно неизменяемым образом. Из того, что совершается во времени, будущее, например, еще не существует, настоящее как бы существует, прошедшее уже не существует; но Он все это обнимает в постоянном и вечном настоящем. И не иначе созерцает Он глазами, и иначе – умом: потому что Он не состоит из души и тела; не иначе теперь, не иначе – прежде и не иначе – после: потому что Его знание не изменяется, как наше, по различию времени: настоящего, прошедшего и будущего, ибо у Него «нет изменения и ни тени перемены» (Иак. I, 17). От мысли к мысли не переходит намерение Того, в чьем бестелесном созерцании все, что Он знает, существует одновременно и вместе. Он так знает времена безо всяких представлений временного свойства, как приводит в движение временное безо всяких движений временного свойства»60.
Здесь, в анализе соотношения божественного, вечного и нетварного мира, ангельского, тварного и сопричастного вечности и человеческого, тварного и временного Августин дает тончайшую диалектику христианской онтологии и антропологии, непостижимую умом языческим, но проясняемым через веру и при помощи языческой логики. «Итак, – заключает отец церкви, – божественному провидению было угодно расположить течение времен таким образом, что, как я сказал и как читаем в Деяниях апостольских, закон о почитании единого Бога дан был «при служении Ангелов» (Деян. VII, 53). В лице их (ангелов) видимо являлся сам Бог, – не Своей субстанцией, для поврежденных очей остающейся всегда невидимой, но посредством известных признаков через подчиненную Творцу тварь; и говорил членораздельными звуками человеческого языка во времени Тот, Кто по природе своей не телесно, а духовно, не чувственно, а разумно, не временно, а, так сказать, вечно не начинает и не перестает говорить; и говорил такое,
59Там же. – С. 469-470.
60Там же. – С. 540-541.

что слушают ушами не тела, а ума Его служители и вестники, которые, будучи бессмертно блаженными, наслаждаются Его непреложной истиной, – слушают, что должно быть сделано, и немедленно и без каких-либо затруднений проводят в область видимого и чувственного. Но закон этот был дан применительно к условиям времени, так что, как сказано, первоначально содержал в себе земные обетования, прообразовывавшие собою обетования вечные, которые видимыми таинствами совершали многие, но понимали немногие»61. Но истинный посредник между миром вечным, несотворенным
иневидимым и временным, видимым и сотворенным – Иисус Христос. Существует мнение, что Августин снимает неоплатоническую версию
времени и уходит от Аристотелевской точки зрения на время. Так А.Я. Гуревич утверждает: «Августин не разделяет точки зрения Аристотеля, признававшего объективность времени как меры движения. Человеческое время радикально отличается от последовательности моментов, образующей время физическое. Антропологическое время, по Августину, это внутренняя реальность, и один лишь дух воспринимает ее»62. Во-первых, и Аристотель говорил о времени как мере движения, связанной со способностью человеческой души. Во-вторых, время, воспринятое человеческой душой, по Августину, лишь отблеск божественной вечности (и в этом он следует за платонизмом) и целостности времен (прошлого, настоящего и будущего), данных в онтологии Бога, что видно из абзаца, приведенного выше. Если время – это «внутренняя реальность», то она и заключена в Боге. Все это проистекает из того, что концепт времени у Августина реконструируют по его «Исповеди», а в трактате «О граде Божием» видят только христианскую «философию истории», каковой нет без христианской «онтологии», «гносеологии», «антропологии», «этики» (и наоборот).
Именно в своем итоговом произведении Августин дает переинтерпретацию не только идей платоников, но и онтологии времени Аристотеля, как одного из учеников Платона. Здесь же мы видим, в чем принципиальное отличие христианского креационизма и от платонизма с его пантеистическим эволюционизмом, и от ветхозаветного креационизма, который также снимается в христианской теологии.
Августин вполне принимает точку зрения Аристотеля, да и всей античности, как частный момент в определении времени в его творении Богом: «Действительно, если справедливо, что вечность и время различаются тем, что время не бывает без некоторой подвижной изменчивости, а в вечности нет никакого изменения, то кто не поймет, что времени бы не было, если бы не было творения, которое изменило нечто некоторым движением?
Моменты этого движения и изменения (выделено нами – авт.), поскольку они совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими более краткими или более продолжительными промежутками, и образуют время (выделено нами
– авт.)»63. Для христианского ума в его полемике с неоплатонизмом и
61Там же. – С. 472-473.
62А.Я. Гуревич Категории средневековой культуры. – М, 1984. – С. 124.
63Августин Блаженный. О Граде Божием. – Мн.; М., 2000. – С. 519.
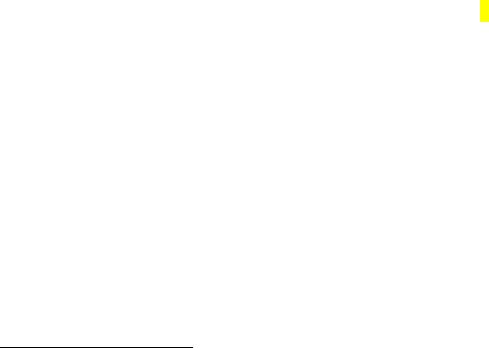
гностицизмом важнее другое: прояснение таинства творения Богом ангелов, мира и человека. Критики христианского креационизма утверждали, что если Бог и сотворил мир, то уже во времени… И ставили другой искушающий вопрос: А что Бог «делал» до сотворения? Что было до сотворения? Почему именно «шесть тысяч лет назад» (Августин придерживается ветхозаветной хронологии сотворения мира и человека), а не раньше или позже?
Августин, понимая всю каверзность вопросов, пишет: «Итак, если Бог, в вечности Которого нет никакого изменения, есть Творец и Устроитель времени, то я не понимаю, каким образом можно утверждать, что Он сотворил мир по прошествии некоего количество времени. Разве что сказать, что и прежде мира существовало некоторое творение, движение которого давало течение времени? Но если священные и в высшей степени достоверные Писания говорят: «В начале сотворил Бог небо и землю», чтобы дать понять, что прежде Он ничего не творил, потому что если бы Он сотворил нечто прежде всего сотворенного им, то и было бы сказано, что Он именно это нечто сотворил в начале, то нет никакого сомнения, что мир сотворен не во времени, но вместе с временем (вот важная мысль для дальнейшей логики Августина! – авт.). Ибо что происходит во времени, то происходит после одного и прежде другого времени, – после того, которое прошло, и прежде того, которое должно наступить; но никакого прошедшего времени быть не могло, потому что не было никакой твари, движение и изменение которой определяло бы время. Но несомненно, что мир сотворен вместе с временем, если при сотворении его произошло изменяющееся движение, как представляет это тот порядок первых шести или семи дней, при которых упоминаются утро и вечер, пока все, что сотворил Бог в эти шесть дней, не завершено было днем седьмым, и пока в седьмой день, с указанием на великую тайну, не упоминается о покое Божием. Какого рода эти дни – представить это нам или крайне трудно, или даже совсем
невозможно, а тем более невозможно об этом говорить»64. В последнем заключении богослов, понимая всю трудность решения обозначенных проблем не только для знающего, но и для философского ума, оставляет фактически простор для веры. Но и до сих пор современная «научная космология» в объяснении происхождения Вселенной (а не мира вообще!) исходит из многочисленных «гипотез», принимаемых на веру. Только вера здесь научная, абстрактная, не экзистенциальная…
Далее Августин и критикует неоплатонические циклические концепции времени и мира, в которых «легко» снимаются все проблемы, связанные с творением мира Богом. Мир и Бог – совечны, мир вечно эволюционирует, разворачивается во времени под воздействием вечно эманирующей в мир «божественности». И Августин сетует, что его оппоненты не увидели в христианском креационизме главного, онтологии любви Бога к миру и человеку: «Что же удивительного, если они, блуждая в этих круговращениях, не находят ни входа, ни выхода? Они не знают, ни откуда начался, ни чем
64 Там же. – С. 519-520.

окончится род человеческий и наша смертность; потому что не могут постигнуть высоты Божией: как Он, будучи Сам вечным и безначальным, начав, однако же, с некоторого момента, сотворил во времени и времена, и человека, которого прежде никогда не создавал, и сотворил не по новому и внезапному, а по вечному и неизменному решению… Пусть, говорит, люди думают, что хотят; пусть воображают, что им угодно; пусть ведут, как им угодно, свои рассуждения. «По высоте Твоей», которую никто из людей не может постигнуть, «возвысил Ты сынов человеческих». Это чрезвычайная высота, что Бог был вечно, что в первый раз восхотел создать человека, которого никогда прежде не создавал, с некоторого времени, и что не изменил при этом Своего совета и воли»65. Может быть, было какое «переходное» состояние между вечностью Бога и «временем человека»?
П.П. Гайденко склоняется к мысли, что последующие христианские мыслители логико-онтологически преодолели этот момент в концепции креационизма путем введения концептов «веки веков» и «длительности». «Учение Боэция о времени, нескончаемой длительности и вечности оказало большое влияние на латинскую средневековую мысль. На это учение опирается, в частности, Фома Аквинский, – пишет она. – Если для Боэция «сотворенная вечность» – это нескончаемая длительность, беспрестанность (sempiternitas), свойственная небу, небесным телам и, наконец, миру в целом, т. е. тем сущим, которые хотя и тварны, и видимы, но не имеют конца во времени, то для Максима Исповедника – это сущности разумные и невидимые, умопостигаемые, имевшие начало, но не имеющие конца, в отличие от существ временных… Так же, как и его предшественники – Боэций, Дионисий и преп. Максим, – Фома вводит и третье понятие, отличающееся как от вечности, так и от времени: в духе библейской традиции он называет его «веки веков». Характеристика «веки веков» принадлежит тварным существам, но таким, которые пребывают в бытии всегда, в отличие от конечных тварей, время бытия которых ограничено… Как видим, Фома причисляет к «промежуточным» существам, жизнь которых
– не во времени и не в вечности, небесные тела (вспомним Боэция) и бессмертных ангелов, существа духовные (вспомним Максима Исповедника)»66. Однако внимательное чтение текста Августина говорит о том, что эти концепты были уже введены и осмыслены им. Более того, у Августина они прямо связаны с его «философией истории» и «антропологией», носят экзистенциальный характер.
Он пишет об ангелах: «Но если я дам такой ответ, мне скажут: «Каким же образом они не совечны Творцу, если всегда был Он и всегда были они? Как можно называть их сотворенными, когда они представляются всегда бывшими?» Что ответить на это? Не сказать ли, что они и всегда были, потому что были во всякое время или как созданные вместе со временем, или как такие, вместе с которыми созданы времена; и вместе с тем – сотворены?
65Там же. – С. 587-588.
66П.П. Гайденко. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. –
М., 2006. – С. 72, 76, 80, 81.
