
- •I. К чему привело развитие экзистенциально-аналитического направления
- •II. Что такое экзистенциализм?
- •III. Пути возникновения экзистенциализма и психоанализа из единой социокультурной ситуации
- •Раздробленность и внутренний раскол в XIX веке
- •Кьеркегор, Ницше и Фрейд
- •I. Быть и не быть
- •II. Тревога и вина как онтологические понятия
- •III. Бытие-в-мире
- •IV. Три формы мира
- •V. О времени и истории
- •VI. Трансцендирование наличной ситуации
- •VII. Некоторые пояснения к психотерапевтической технике
- •§ 3. Вторая волна репрессий.
§ 3. Вторая волна репрессий.
ПСИХОЛОГИЯ 40-Х – 50-Х ГОДОВ.
Переломы в развития науки в 30-е – 50-е годы
В развитии общественных и естественных наук можно выделить критические точки развития – или же деградации – выявив векторы, определившие дальнейшее движение мысли ученых.
Если обратиться к истории общественной мысли и науки в нашей стране в 30-е – 50-е годы, то в ней легко обнаружить критические временные точки, выступающие в качестве аналога года «великого перелома» в СССР, которым, как известно, был 1929 год. Для философии в этой роли выступил 1931 год – дата опубликования постановления ЦК ВКП(б) «О журнале «Под знаменем марксизма», после чего философская мысль от рекомендованного в 1922 году В.И. Лениным углубленного изучения гегелевской диалектики ускоренным темпом покатилась к уровню, задаваемому написанным И.В. Сталиным разделом «О диалектическом и историческом материализме» в четвертой главе «Краткого курса истории ВКП(б)». Год 1938-й, когда вышел в свет «Краткий курс», был переломным не только для истории партии, но и для гражданской истории СССР. Годины «великого перелома» могут быть указаны и для других наук. К примеру, 1948-й год стал таким для всего цикла биологических наук после разгрома, который им учинил Т.Д. Лысенко на августовской сессии ВАСХНИЛ, и 1950-й год – для филoлoгичecкиx наук, когда они насильственным образом оказались оплодотворены публикацией брошюры Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Именно в 1950 году произошел второй «великий перелом» в развитии психологической науки (первый следует отнести к 1936 году, когда были разгромлены педология и психотехника, что подробно изложено в предшествующем параграфе). Второй «перелом» осуществила Объединенная научная сессия АН и АМН СССР, посвященная учению И.П. Павлова. В дальнейшем ей присвоили имя «павловской».
На сессии были сделаны два главных доклада. С ними выступили академик К.М. Быков и профессор А.Г. Иванов-Смоленский. С этого момента они обрели статус верховных жрецов культа Павлова. По тем временам всем было ясно, чья могущественная рука подсадила их на трибуну сессии. Уже не было необходимости сообщать, что доклад одобрен ЦК ВКП(б). Это разумелось само собой – на основе учета опыта августовской сессии ВАСХНИЛ, где информация об одобрении ЦК была сообщена Т.Д. Лысенко уже после того, как некоторые выступающие в прениях неосторожно взяли под сомнение непогрешимость принципов «мичуринской» биологии. Подобного на «павловской» сессии дожидаться не стали, а начались славословия в адрес главных докладчиков, «верных павловцев», наконец, якобы открывших всем глаза на это замечательное учение. При этом почему-то подразумевалось, что до той поры никто об этом не догадывался.
Таким образом, два человека оказались во главе целого куста наук: физиологии, психологии, психиатрии, неврологии, дефектологии, да и вообще всей медицины. Происходили трагические события (увольнения «антипавловцев», глумление, вынужденные покаяния, инфаркты).
Итак, два главных докладчика, чье мнение выдавалось тогда за истину в последней инстанции... Почему два? Случайно ли это?
Можно высказать гипотезу, что здесь действовал сложившийся в годы сталинизма своего рода социально-психологический «закон диады». Как известно, одним из тактических шагов Сталина в политике было стремление изобразить себя едва ли не единственным соратником и продолжателем дела Ленина. Отсюда сакраментальная формула: «Сталин – это Ленин сегодня». При этом возникала симметрия: тогда «Маркс – Энгельс», теперь «Ленин – Сталин». Эта симметрия отвечала тому, что в психологии обозначается понятием «прегнантность» (хорошая, законченная форма). В дальнейшем, когда начали формироваться по примеру культа личности вождя новые «микрокультики», за которые чаще всего не несет ответственности тот или иной их персонаж, они конструировались по тому же диалектическому принципу и своей прегнантностыо поддерживали главную диаду «Ленин – Сталин».
В 1950 году, казалось бы, начинает складываться новая пара «вождей», открывших своими докладами «павловскую» сессию. Но ненадолго. В частном письме академик В.П. Протопопов в 1852 году пишет другу: «Иванов-Смоленский, этот «типичный временщик» в науке, насаждает «аракчеевский режим». К сожалению, этот «аракчеевский режим», хотя и недолго существовавший, успел причинить долговременный ущерб не одной, а многим наукам, в том числе и психологической.
«Павловская» сессия и ее итоги
Сессия с самого начала приобрела антипсихологический характер. Идея, согласно которой психология должна быть заменена физиологией высшей нервной деятельности, а стало быть, ликвидирована, в это время не только носилась в воздухе, но и уже материализовалась... Так, например, ленинградский психофизиолог М.М.Кольцова заняла позицию, отвечавшую санкционированным свыше указаниям: «В своем выступлении на этой сессии профессор Теплов сказал, что, не принимая учения Павлова, психологи рискуют лишить свою науку материалистического характера. Но имела ли она вообще такой характер? С нашей точки зрения, данные учения о высшей нервной деятельности, игнорируются психологией не потому, что это учение является недостаточным, узким по сравнению с областью психологии и может объяснить лишь частные, наиболее элементарные вопросы психологии. Нет, это происходит потому, что физиология стоит на позициях диалектического материализма; психология же, несмотря на формальное признание этой позиции, по сути дела, отрывает психику от ее физиологического базиса и, следовательно, не может руководствоваться принципом «материалистического монизма».
Что означало в те времена отлучение науки от диалектического материализма? Тогда было всем ясно, какие могли быть после этого сделаны далеко идущие «оргвыводы». Впрочем, и сама Кольцова предложила сделать первый шаг в этом направлении. Она, заключая свое выступление, сказала: «...надо требовать с трибуны этой сессии, чтобы каждый работник народного просвещения был знаком с основами учения о высшей нервной деятельности, для чего надо ввести соответствующий курс в педагогических институтах и техникумах наряду, а может быть, вместо курса психологии» (подчеркнуто нами. – А.П., М.Я.).
Перед историками психологии не раз ставили вопросы, связанные с оценкой этого периода ее истории: как объяснить покаянные речи психологов на сессии, так ли была реальна опасность для психологии, а если она была столь уж велика, то почему тогда психологию все-таки не прикрыли?
Причины «павловской» сессии?! Очевидно, проблему надо поставить в широкий исторический контекст. В конечном счете, это была одна из многих акций, которые развертывались в этот период, начиная с 30-х годов и почти до момента смерти Сталина, по отношению к очень многим наукам. Как уже было сказано, это касалось педологии и психотехники, еще раньше – философии. Такие кампании были и в литературоведении, языкознании, в политэкономии. Особенно жесткий характер это приобрело в биологии. Таким образом определялась позиция каждой науки на путях ее бюрократизации и выделения группы неприкасаемых лидеров, с которыми всем и приходилось в дальнейшем иметь дело как с единственными представителями «истинной» науки. Происходила канонизация этих «корифеев», как был канонизирован «корифей из корифеев» Сталин. А так как они признавались единственными держателями «истины», то ее охрану обеспечивал налаженный командный, а в ряде случаев, и репрессивный аппарат. Поэтому речь идет об общем процессе. Впрочем, иначе и быть не могло. Было бы в самом деле странно, если бы все это произошло именно и только с психологией. Поэтому вопрос о причинах, вызвавших созыв «павловской» сессии, должен быть переформулирован: как возникли монополизация, бюрократизация, вождизм в науке? Они определялись общей ситуацией, имеющей совершенно определенные исторические причины.
Неужели психологи не могли решительно протестовать против вульгаризаторского подхода к психологии, закрывавшего пути ее нормального развития и ставившего под сомнение само ее существование? Почему все на сессии клялись именами Сталина, Лысенко, Иванова-Смоленского, а не только именем Павлова?
Современникам просто невозможно представить себе грозную ситуацию тридцатых и сороковых годов – любая попытка прямого протеста и несогласия с утвержденной идеологической линией сессии двух академий была бы чревата самыми серьезными последствиями, включая прямые репрессии. И все-таки поведение психологов на сессии нельзя считать капитулянтским. Их ссылки на имена тогдашних «корифеев» были не более как расхожими штампами, без которых тогда не обходилась ни одна книга или статья по философии, психологии, физиологии. Иначе они просто не увидели бы света. Вместе с тем, если внимательно прочитать выступления психологов, их тактику можно не только понять, но и вполне оценить, разумеется, если не подходить к ней с позиций сегодняшнего дня.
Конечно, сейчас тяжело перечитывать самообвинения и «разбор» книг чужих и собственных со скрупулезным высчитыванием, сколько раз на их страницах упоминалось имя Павлова, а сколько раз оно отсутствовало. Нельзя отрицать, что психология фактически привязывалась к колеснице победительницы – физиологии ВНД. Однако цель оправдывала средства. На сессии психология отстаивала свое право на существование, которое оказалось под смертельной угрозой. Во время одного из за седаний Иванов-Смоленский получил и под хохот зала зачитал записку, подписанную так: «Группа психологов, потерявших предмет своей науки». Уже тогда многие предполагали, что эта записка была инспирирована самим Ивановым-Смоленским. Но если бы в резолюции съезда было сказано, что психология не имеет своего предмета, то это означало бы ее ликвидацию. Такого рода опыт уже был: педология, психотехника, генетика, психосоматика. Поэтому основной пафос и смысл выступлений психологов на съезде – отстаивание предмета своей науки. Причем любыми способами. Вот почему тогдашнее признание «ошибок» лидерами психологической науки, – по-видимому, далеко не всегда искренне – не должно вызывать сейчас никаких иных эмоций, кроме сочувствия и стыда за прошлое науки. Конечно, надо поклониться памяти людей, сумевших занять мужественную позицию, пытаясь – что было обречено на неудачу в тех обстоятельствах – противостоять произволу в науке. Были и такие. Они шли на риск, масштабы которого нынешнее поколение даже не может себе представить. Но нельзя бросить камень в тех, кто тогда под угрозой упразднения важнейшей отрасли знания покаялся «галилеевым покаянием».
Вопрос о том, почему психология не была ликвидирована, не объявлена «псевдонаукой», хотя к этому после «павловской» сессии явно шло дело, остается пока открытым. Можно предположить, что доступ к архивам многое прояснит6.
По всей вероятности, Сталин был знаком с гимназическим курсом логики и психологии. Не случайно по его указанию был в 1946 году перепечатан один из учебников для гимназий и семинарий, автором которого был Г.И. Челпанов. Психология в гимназии ограничивалась описанием процессов мышления, памяти, воображения и т.д. и не посягала на постижение глубин и противоречий душевной жизни человека. Такая психология на самом деле не нуждалась в замене ее физиологией. Школярская, умозрительная психология не представляла опасности для сталинского режима. Другое дело – объективная по своим методам наука. От нее можно было ожидать анализа того, что изучению тогда никак не подлежало. Поэтому, надо полагать, были достаточно серьезные основания для того, чтобы именно с помощью «павловизации» командные верхи сталинской эпохи попытались «реформировать» научную психологию. Точное знание психологии личности как социального качества человека, характеризующего его со стороны включенности в межиндивидные отношения, изучение психологии различных групп, входящих а общественную жизнь, характера их желаний, опасений, притязаний, установок вообще, внутреннего мира человека (а не легко заменимого «винтика» в государственной машине) во всей его сложности и неоднозначности не могло отвечать интересам деспотического режима. Ему нужны были безусловное подчинение, чуждое сомнениям и вообще какой-либо рефлексии, отрицание даже самой возможности бессознательного и сведение формирования сознания к формировке «сознательности», под которой понималось, по существу, автоматическое следование распоряжениям «свыше». Возникла заманчивая возможность представить человека как условнорефлекторную машину, управляемую сигналами различного уровня сложности.
Менее всего есть основания считать, что это отвечало генеральной линии развития павловского учения и позициям самого Павлова, Надо иметь в виду, что сам Павлов, запрещая в своих лабораториях использовать психологические термины, в то же время считал, что психология и физиология идут к своей цели разными путями. Примечательно, что он приветствовал открытие Психологического института в Москве, а уже при советской власти приглашал его бывшего директора, профессора Г.И. Челпанова на работу в Колтуши. Поэтому не будем рассматривать «павловизацию» психологии со всеми ее драмами и курьезами (к примеру, попытками строить обучение школьников, ориентируясь на механизмы выработки условных рефлексов) как запоздалый результат каких-то волеизъявлений великого ученого. Надо сказать, что к концу жизни с ним вообще не очень-то считались. Он был нужен как икона и сталинскому режиму был полезен скорее мертвый, нежели живой. То же самое можно сказать о М. Горьком, В. Маяковском и некоторых других, официально причисленных к «лику советских святых». Об этом свидетельствует, в частности, недавно опубликованная трагическая для И.П. Павлова переписка с Молотовым7.
На протяжении долгого времени сохранялся миф о якобы благотворном влиянии «павловской» сессии на развитие психологической науки. Историю психологии, как и предлагал К.М. Быков, делили всего лишь на два периода: «допавловский» (до 1950 г.) и «павловский». Где-то с середины пятидесятых годов, в особенности после XX съезда, положение стало меняться: крайности антипсихологизма времен «павловской» сессии явно начали преодолеваться, хотя это и вызывало неудовольствие «верных павловцев».
Конечно, Павлов был и остается по сей день великим ученым, разгадавшим многие тайны работы мозга. Такие представители естественных наук, как Павлов, Сеченов, Ухтомский, Бехтерев, Н. Бернштейн, Вагнер в нашей стране, как и Гельмгольц, Фехнер, Селье, Скиннер, Фрейд, Кеннон, Келер на Западе, оставили необычайно глубокий след в истории психологии и обогатили ее своими выдающимися открытиями. Сегодня было бы нелепо брать Павлова под защиту. Речь идет о другом: надо выяснить не только, каковы были результаты проникновения естественнонаучных идей Павлова в психологию, но и каковы были как ближайшие, так и отдаленные последствия административной «павловизации» психологии.
Эти последствия имели в основном негативный характер. Вынужденное следование «компетентным» рекомендациям «павловской» сессии предельно сузило рамки психологического исследования, сводя их, главным образом, к единственно разрешенной проблематике «психика и мозг». И хотя некоторое число психологов (к примеру, А.Р. Лурия, Е.Н. Соколов и другие) и в самом деле обогатили психофизиологию значительными работами, основная масса психологов занималась наполнением своих сочинений к месту и не к месту ссылками на Павлова.
Помимо ближайших последствий «павловской» сессии существовали и отдаленные, которые резонируют в сегодняшнем дне психологической науки. Больше всего это затронуло три отрасли психологии.
«Верные павловцы» лишали своего благословения любую сколько-нибудь далекую от соприкосновения с ВНД психологическую проблематику. Социальная психология по понятным причинам не соприкасалась с физиологией мозга и поэтому лишалась необходимых приоритетов. Многолетний перерыв в развитии социальной психологии, длившийся с конца 20-х годов, затянулся в связи с этим на еще более продолжительное время, хотя в период «оттепели», казалось, для ее продвижения открылись шлюзы. Достаточно сказать, что на 1-м съезде Общества психологов в 1959 году всего лишь несколько докладов (не секций! не симпозиумов!) может быть отнесено к рубрике «социальная психология». Впрочем, до начала 60-х годов сам термин «социальная психология» имел одиозный характер, фактически не употреблялся, а если использовался, то применительно к западной, «буржуазной» психологии. Именно рефлексология в прошлом продемонстрировала попытки представить социальную жизнь людей как совокупность рефлексов или «суперрефлексов». Наследники рефлексологии, не вспоминая собственную вульгаризацию социологии, препятствовали психологии исследовать с научных позиций взаимодействие личности и общества.
Не в менее тяжелом положении на ряд лет оказалась психология личности. Само собой разумеется, что в годы сталинизма возможности объективного изучения целостной личности были предельно сужены. Значительная часть советских людей оказалась отчуждена от результатов собственного труда, и модель нового «советского человека» создавалась исключительно умозрительным путем, при декларировании того, что ему «жить стало лучше, жить стало веселее». Надо сказать, что при этом возникала парадоксальная ситуация. С одной стороны, теоретики и методологи неустанно призывали бороться с «функционализмом», то есть с исследованием изолированных психических функций и качеств по отдельности (мышления, воли, чувств, памяти и т.д.), а с другой стороны, при попытке «собрать» из этих элементов «целостную личность», живущую и действующую в конкретных исторических условиях, надо было бы отвечать на каверзные (небезопасные) вопросы. Как принцип диалектически мыслящих людей «подвергай все сомнению» может уживаться с верой в непогрешимость «великого вождя»? Как был вздут «священный гнев» масс против «врагов народа», еще недавно ближайших друзей и сподвижников Ленина? Не требуется объяснять, насколько самоубийственно было в те годы не только искать ответы на эти вопросы, но даже ставить их. Люди не похожи друг на друга, целостная личность соткана из противоречий, и набор их у разных людей разный. Но противоречия у советских людей исключались априорно. У винтиков резьба должна быть нарезана единообразно.
Однако отрицать, что в чем-то люди различаются, было все-таки нелепо. После «павловской» сессии такой предмет исследования был найден, и к его изучению надолго свелась вся психология личности; им послужили индивидуальные психофизиологические свойства нервной системы человека дифференциальная психофизиология. Здесь, действительно, успехи оказались значительными, и вклад в науку, бесспорно, велик. Отправляясь от работ И.П. Павлова о типах ВНД, Б.М. Теплову и его ученику и сотруднику В.Д. Небылицину удалось углубить понимание природы темперамента. Психологические свойства нервной системы проявляются, прежде всего, в особенностях темперамента: скорости, интенсивности, темпе психических процессов и состояний. Изучение темперамента – задача, безусловно, достойная, ее решение занимает ученых со времен Гиппократа и Галена, но для периода «павловской» сессии она оказалась и достаточно удобной, не нарушающей «законопослушание» ученых, так как темперамент не характеризует содержательную сторону личности (ее мотивы, ценностные ориентации, сомнения, веру и неверие и т.п,), нe выявляет бедность или богатство душевной жизни человека. Душа человека оставалась забытой на обочине дороги, по которой двинулись многочисленные исследователи.
Правда, с течением времени удельный вес психофизиологических исследований существеняо снижается, но принципы изучения личности, сложившиеся в предшествующий период, сохраняют надолго свою инерцию. Утверждается то, что было выше названо «коллекционерским» подходом к личности, превращающем ее в некую емкость, принимающую в себя черты темперамента, характера, способности, склонности и т.д. При этом задача психолога сводилась к инвентаризации всех этих накоплений и выявлению неповторимости их сочетаний для каждого отдельного человека. В значительной мере «коллекционерский» подход сказывается и сейчас в работах психологов, хотя пути его преодоления уже намечены.
Рефлексологический, точнее, неорефлексологический, подход на протяжении двух десятилетий доминировал и в педагогической психологии, которую многие исследователи пытались строить на основе условных рефлексов или временных связей. Это вызвало возрождение господствовавших в психологии XIX века теорий, сводивших обучение и усвоение к ассоциациям. А у нас такой подход считался в 50-е годы XX века прогрессивным и плодотворным только потому, что декларировался в качестве воплощения идей И.П. Павлова в психологии.
Вновь воспроизводилась классическая рефлексологическая схема. Что такое значение? Ассоциация. Что такое понимание? Ассоциация. Что такое память? Ассоциация. Что такое воображение? Ассоциация, и т.д. Научная бесплодность подобных голых констатации очевидна. Теории обучения сводились к примату заучивания, механического запоминания и воспроизведения, новые же подходы, к примеру, теория содержательного обобщения В.В. Давыдова, с трудом прокладывали себе дорогу в школу, встречая сопротивление приверженцев «павловской психологии».
Административный произвол лишал науку творческого начала. В годы господства начальственных императивов не было привилегированных наук. Даже далекие от высоких идеологических сфер области знания были под тяжелым прессом — привилегиями было наделено невежество.
Психология подвергалась обездушиванию в этот период дважды. Во-первых, вместе со многими науками в годы «великих переломов». Интенсивно развивавшуюся в двадцатые годы, ее буквально срезали на взлете. Специальные психологические журналы, съезды и конференции, сотни издаваемых книг и брошюр, дискуссии, многочисленные прикладные лаборатории, поиски в области психодиагностики — все это за несколько лет отошло в небытие. Многие психологи притихли, поняв, что в их услугах не нуждаются. Психология начала терять самостоятельность, постепенно превращаясь в сателлита педагогики, а затем и физиологии.
Во-вторых, обездушивание психологической науки имело свойственную ей особенность — утрачивалась возможность увидеть и изучить личность человека в ее живой многосложности и неоднозначности. Это вело лишь к стерилизации науки, сворачиванию ее научной проблематики.
Психология при всех потерях выстояла, вышла из анабиоза, даже в застойные годы она понемногу начала набирать скорость, используя ускорение, которое придало ей осуждение культа личности. В последнее время она получила новые импульсы для развития. Наше трудное прошлое хороший учитель, если мы не забываем его уроки.
А.Н.Ждан История психология. М., 2003, с.391-399.
Другое направление исследований по преодолению постулата непосредственности связано с введением в психологию деятельности как центрального образования. Его начало хронологически и идейно восходит к Л. С. Выготскому (1896—1934). Один из основоположников советской психологии, Выготский внес огромный вклад в разработку ее методологических основ; он создал культурно-историческую концепцию в психологии, которая получила дальнейшее развитие в общепсихологической теории деятельности, разработанной А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурией, П. Я. Гальпериным, Д. Б. Эль-кониным и др. «Трактовка Л. С. Выготским опосредствованной структуры человеческих психологических процессов и психического как человеческой деятельности послужила краеугольным камнем, основой для всей разрабатывавшейся им научно-психологической теории — теории общественно-исторического («культурного»— в противоположность «натурному», естественному) развития психики человека»,— писал А. Н. Леонтьев в своем некрологе Л. С. Выготского. Здесь А.Н. Леонтьев назвал как основную идею творчества Л. С. Выготского положение об общественно-исторической природе человеческой психики, человеческого сознания в противоположность натурализму в его различных формах. Выготский ввел понятие о высших психических, функциях (мышление в понятиях, разумная речь, логическая память, произвольное внимание и т. п.) как специфически человеческой форме психики и разработал учение о развитии высших психических функций. Первым изложением этого учения явилась статья «Проблема культурного развития ребенка». Все последующие годы вплоть до смерти (1934) связаны с систематической экспериментальной и теоретической разработкой основной идеи. Под руководством Л. С. Выготского из небольшой группы его учеников и соратников (А. Р. Лу-рия, А. Н. Леонтьев, вскоре к ним присоединились А. В. Запорожец, Л. И. Божович, Н. Г. Морозова, Л. С. Славина, Р. Е. Левина) в Институте психологии сложилась школа, превратившаяся в одну из самых больших и влиятельных школ в советской психологии. Чрезвычайно широк диапазон исследований Выготского: детская психология, общая психология, дефектология, психология искусства, методология и история психологии и др. Все они объединены общим теоретическим подходом и одной проблемой — проблемой генезиса, структуры и функций человеческой психики.
Рис. 18. Связь между А и В при натуральном запоминании устанавливается прямо; при мнемотехническом — при помощи вспомогательного элемента X, так что вместо связи А—В устанавливаются две: АХ и ВX
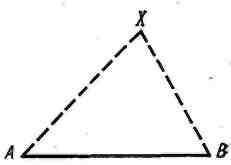
Уже в статье 1928 г. содержится идея опосредствования как отличительная особенность высших психических функций: в ней впервые схематично представлена структура высших психических функций (на примере операции памяти; рис. 18), «Включение в какой-либо процесс поведения знака «перестраивает весь строй психологических операций подобно включению орудия в трудовую операцию. Именно структура, объединяющая отдельные процессы в состав культурного приема поведения, превращает этот прием в психологическую функцию, выполняющую эту задачу шо отношению к поведению в целом», — писал Л. С. Выготский в этой статье.
Вопрос о генезисе высших психических функций был главным в теории Выготского. Выготский сформулировал законы развития высших психических функций. «Первый из этих законов заключается в том, что само возникновение опосредствованной структуры психических процессов человека есть продукт его деятельности как общественного человека. Первоначально социальная и внешне опосредствованная, она лишь в дальнейшем превращается в индивидуально-психологическую и внутреннюю, сохраняя в принципе единую структуру»,— писал А. Н. Леонтьев в некрологе. Опираясь на марксистское "учение об общественно-исторической природе человеческого сознания и в противоположность механистическим 'Представлениям о высших психических процессах человека как тождественных с элементарными чисто ассоциативными процессами (например, Э. Торндайк) и идеалистическим концепциям о врастании в культуру, видевшим в высших психических функциях лишь изменение содержания (Э. Шпрангер, В. Дильтей), Выготский показал, что в процессе культурного развития складываются новые высшие исторически возникающие формы и способы деятельности — высшие психические функции. Это положение о социальном генезисе психических функций человека получило название закона развития высших психических функций. «Каждая высшая психическая функция появляется в процессе развития поведения дважды: сначала как функция коллективного поведения, как форма сотрудничества или взаимодействия, как средство социального приспособления, т. е. как категория интерпсихическая, а затем вторично как способ индивидуального поведения ребенка, как средство личного приспособления, как внутренний процесс поведения, т. е. как категория интрапсихологическая». Например, логическое размышление возникает не раньше, чем в детском коллективе возникает спор; волевые процессы также развиваются из подчинения правилам поведения коллектива, например, в игре; речь из внешней как средства сообщения превращается во внутреннюю как. средство мышления. Исторически возникновение высших. психических функций как новых форм человеческого мышления и поведения связано с развитием трудовой деятельности. Высшие психические функции — продукт не биологической эволюции. Они имеют социальную историю. «Только в процессе коллективной общественной жизни выработались и развились все характерные для человека высшие формы интеллектуальной деятельности». Положение о родстве труда и высших интеллектуальных функций привело к выводу о «психологических орудиях», в качестве которых выступают язык, число» письмо и т. п., созданные человеком, в этом смысле искусственные, социальные, а не индивидуальные по своей природе. Психологические орудия отличаются от орудий труда; если последние направлены на овладение процессами природы, то психологические орудия выступают средством воздействия на самого себя и в силу этого делают психические процессы произвольными и сознательными. По содержанию психологические орудия суть знаки, имеющие значение. Основным знаком является речь, слово. Так наметилась линия исследований» связанная с изучением роли языка в психическом развитии ребенка. Исследование значений показало, что у ребенка на разных стадиях развития за словом стоят разные значения. Отсюда начались исследования развития значения слова в детском возрасте. Значение слова понималось как обобщение, это клеточка развития ео-знания. В исследованиях научных и житейских понятий» образования понятий установлены стадии развития обобщений: от синкретического образа к комплексам (в их различных вариантах) и от них к понятиям и соответственно к мышлению в понятиях, которые Л. С. Выготский отождествлял со значениями. Исследование факта развития значения слова привело Выготского к проблеме системного и смыслового строения сознания. Было показано, что «в зависимости от того, какой степени достиг ребенок в развитии значения слов, находятся все основные системы его психических функций». В отличие от психологии, которая изучала возрастные изменения функций, взятых изолированно и отдельно друг от друга, Выготский развил теорию системного и смыслового строения сознания («Лекции по общей педологии. Мышление и речь»). Согласно этой теории «изменение -функционального строения сознания составляет главное и центральное содержание всего процесса психического развития».
В общем картина возрастного развития сознания рисовалась как изменение структуры сознания с последовательным доминированием разных сфер. «История развития умственного ребенка учит нас, что за первой стадией развития сознания в младенческом возрасте, характеризующейся недифференцированностью отдельных функций, следуют две другие — раннее детство и дошкольный возраст, из которых в первой дифференцируется и проделывает основной путь развития восприятие, доминирующее в системе межфункциональных отношений в данном возрасте и определяющее как центральную доминирующую функцию деятельность и развитие всего остального сознания, а во второй стадии такой доминирующей функцией является выдвигающаяся на передний план развития память». Начиная с подросткового возраста доминирующей функцией становится мышление. Основным механизмом развития высших психических функций в онтогенезе является интериоризация. Л. С. Выготский указывает на П. Жанэ, который развивал сходные идеи. Высшие психические функции происходят извне, они «строятся первоначально как внешние формы поведения и опираются на внешний знак». Выготский различает элементарные — низшие — процессы, он называет их естественными психологическими функциями, иногда психофизиологическими функциями и высшими психическими функциями. Развитие низших психических функций в детском возрасте не наблюдается, их наличие характерно для примитива, т. е. для человека, который не проделал культурного развития, не овладел культурно-психологическими орудиями, созданными в процессе исторического развития. Примитивность сводится к неумению пользоваться орудиями и к естественным формам проявления психологических функций. В статье 1928 г. на примере запоминания Л. С. Выготский описал четыре стадии развития отдельной психической функции: 1) стадия примитивного поведения: запоминание происходит естественным способом; 2) стадия наивной психологии: дается средство, которое используется несовершенно; 3) стадия внешне опосредствованных актов: ребенок правильно пользуется внешним средством для выполнения той или иной операции; 4) внешняя деятельность при помощи знака переходит во внутреннюю, внешний знак вращивается и становится внутренним, акт становится внутренне опосредствованным. Переход от интерпсихической к интрапсихиче-ской функции происходит в сотрудничестве с другими детьми и в общении ребенка со взрослым. Выготский подчеркивал важную роль отношений между личностью ребенка и окружающей его социальной средой на каждой возрастной ступени. Эти отношения меняются от возраста к возрасту и составляют «совершенно своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной. Это отношение мы назовем социальной ситуацией развития в данном возрасте». Из исследований психического развития ребенка возник новый подход к изучению отношения между развитием и обучением.
Поскольку высшие психические функции имеют своим источником сотрудничество и обучение, постольку был сделан вывод о ведущей роли обучения в психическом развитии. Это означало, что обучение идет впереди развития. Область доступного ребенку в сотрудничестве получила название зоны ближайшего развития, область выполняемого самостоятельно — область актуального развития. «Зона ближайшего развития имеет более непосредственное значение для динамики интеллектуального развития и успешности обучения, чем актуальный уровень их развития».
По мысли Выготского, эти исследования должны быть положены в основу педагогической практики. «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития»,— писал Л. С. Выготский (курсив Выготского.— А. Ж.).
Некоторое развитие получило исследование исторического формирования психических процессов.
Исследование нового предмета — развития высших психических функций—потребовало разработки нового метода, так как,. согласно Л. С. Выготскому, «методика должна соответствовать природе изучаемого объекта». Выготский называл свой метод или экспериментально-генетическим, или каузально-генетическим. Конкретным выражением этого метода была методика двойной стимуляции, с помощью которой проводились экспериментальные исследования памяти, внимания и др. Клинически-психологический анализ аномалий психического развития Выготский рассматривал в их значении для понимания генезиса психики человека, роли обучения в процессе психического развития. Он называл изучение развития и воспитания умственно отсталого, глухонемого., психопатического ребенка «экспериментами, поставленными самой природой». Поэтому труды Л. С. Выготского по дефектологии (Собр. соч. Т. 5) составляют неотъемлемую часть его общепсихологической теории.
Принципиальный смысл метода Л. С. Выготского заключается в том, что он показал, что единственно адекватным исследованию проблемы развития, т. е. исследованиютого нового, что возникает в психике человека, может быть только способ искусственного восстановления генезиса и развития исследуемого процесса. Этот метод положил начало принципиально новой методологии психологического исследования, получившей в последующем значительное развитие в советской психологии (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.).
Во всех исследованиях Л. С. Выготского общение ребенка со взрослым выступает в качестве важнейшего условия психического развития. Поскольку общение происходит при помощи слова, постольку в объяснении развития высших психических функций и личности в целом центральным условием их возникновения и развития становится речь. Здесь наметились трудности, связанные с ограниченным пониманием источников психического развития. Эти трудности задали новые перспективы решения введенной Выготским проблемы развития специфически человеческих высших психических функций. С, Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев выступили с идеей предметной осмысленности деятельного как того, от чего зависит психическое развитие ребенка. При этом роль общения не отрицалась, но соединялась с собственной деятельностью.
Так, исходя от Выготского, в советской психологии начало разрабатываться учение о деятельности.
А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский Теория и история психологии. Т.1. Ростов-на-Дону, 2003, с.156-168.
«Особый путь» советской психологии и тактика ее выживания
До Октябрьского переворота у российской психологии, имевшей существенно значимые естественнонаучные традиции и интересные философские разработки, не было принципиальных отличий от развития науки на Западе. Были все основания рассматривать отечественную науку как один из отрядов мировой научной мысли. Вместе с тем, отражая специфику социальных запросов России, психология в этой стране отличалась рядом особенностей.
Философам-психологам, стоявшим на позициях идеалистической философии (А.И. Введенский, Л.М. Лопатин, И.О. Лоссккй, С.Л. Франк и др.), противостояло естественнонаучное направление («объективная психология», или «психорефлексология» В.М. Бехтерева, «биопсихология» В.А. Вагнера), развивавшееся в тесной связи с идеями Сеченова. Получила развитие экспериментальная психология (А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев и др.), видную роль в ее становлении сыграл организатор Московского психологического института Г.И. Челпанов, тяготевший в общетеоретических построениях к идеалистической психологии («Мозг и душа», 1910).
В первые годы после Октябрьского переворота в психологической науке ведущую роль играло естественно научное направление, провозглашавшее союз с естествознанием (биологией, физиологией, эволюционной теорией) к выступавшее с идеями построения психологии как объективной науки. В развитии этого направления важнейшее место принадлежало учению И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. В работах В.М. Бехтерева и K.Н. Корнилова определились черты ведущих направлений психологии тех лет – рефлексологии и реактологии.
На 1-м Всероссийском съезде по психоневрологии (1923) в докладе Корнилова впервые было выдвинуто требование применить марксизм в психологии, что явилось началом идеологизированной «перестройки» психологической науки. Вокруг Московского психологического института, возглавлявшегося с 1923 года Корниловым, группировались молодые научные работники, стремившиеся реализовать программу построения «марксистской психологии» (Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.); видная роль среди них принадлежала Л.С. Выготскому. Эти психологи испытывали значительные трудности при определении предмета психологии: в реактологии и рефлексологии сложилась механистическая трактовка ее как науки о поведении.
Уже в начале 20-х годов, став объектом жесткого идеологического прессинга, психология в советской России обрела черты, которые не могут быть поняты без учета политической ситуации, в которой оказались как теоретики, так и практики психологии. То, что произошло с психологией в 20-е годы, выступило в качестве своего рода прелюдии к ее дальнейшему репрессированию.
Первая волна репрессий ударила по психологии на рубеже 20-х – 30-х годов и сопровождалась физическим уничтожением многих ученых (Шпильрейн, Ансон и др.) в середине 30-х годов, имела своим апофеозом объявление педологии реакционной лженаукой, а психотехники – «так называемой наукой». Была проведена жестокая чистка рядов психологов. Укоренилось подозрительное отношение к педагогической и детской психологии как отрасли науки и практики, «возрождающей педологию».
Вторая волна репрессирования психологии пришлась на конец 40-х – начало 50-х годов: борьба с «безродным космополитизмом» (погромные выступления против С.Л. Рубинштейна, М. Рубинштейна и др.), попытки вытеснения психологии и замена ее в научных и образовательных учреждениях физиологией высшей нервной деятельности (ВНД). В результате на протяжении 30 – 35 лет в психологии сложилась своеобразная тактика выживания, которая учитывала систематический характер репрессиий и во многом определялась ожиданием новых гонений. С этим связана демонстративная присяга психологов (как и представителей всех других общественных и естественных наук) на верность «марксизму-ленинизму». Вместе с тем психология стремилась использовать в марксистском учении то, что могло послужить прикрытием конкретных исследований (главным образом, связанных с разработкой психогносеологической и психофизической проблем, обращением к диалектике психического развития). Использовались взгляды и работы многих зарубежных психологов под видом их идеологизированной критики.
Навязанные политической ситуацией специфические условия выживания и сохранения кадров ученых и самой науки оказались основным препятствием на пути ее нормального развития. Это выразилось прежде всего в отказе от изучения сколько-нибудь значимых и актуальных социально-психологических проблем. До начала 70-х годов исследования межличностных отношений и личности фактически исключались из научного обихода. Отсюда полное отсутствие работ по социальной, политической, экономической и управленческой психологии. Идеологическокое табу уводило психологию в сторону от социальной практики и ее теоретического осмысления.
Используя метафору, можно сказать: в научном «кровотоке» возник идеологический «тромб». В результате образовались «коллатерали» (обходные пути, минующие затромбированный сосуд). Изучение личности заменяли идеологически нейтральные исследования типов нервной деятельности, темпераментов и способностей (Теплов, Мерлин, Небылицин и др.). Развитие личности путем «двойной редукции» было сведено к развитию психики, а последнее — к развитию познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления и т.д.). Фактически все наиболее заметные результаты работы видных психологов (А. Леонтьева, А. Смирнова, А. Запорожца, П. Зинченко, Д. Эльконина и др.) локализованы в сфере «механизмов» когнитивных процессов.
Тактика выживания спасла психологию, позволив ученым внести значимый вклад в ряд ее отраслей. В то же время она во многом деформировала ее нормальное развитие.
Марксизм в советской психологии
Марксизм известен как идеология, всесветно пустившая глубокие корни. Ему присуща, как и любой идеологии, философская подоплека (своя версия о предназначении человека в социальном мире). Если отвлечься от кровавой реальности политических реализации марксизма и обратиться к науке, то его притязания на научность общеизвестны. «Сертификатом» научности служил уже рассмотренный выше принцип детерминизма, а применительно к истории – постулат о закономерном переходе от одних социальных форм к другим. В марксизме этот постулат оборачивается выводом о том, что капитализм сменяется социализмом с неотвратимостью времен года.
Психология в силу уникальности своего предмета изначально обречена быть, говоря словами Н.Н. Ланге, двуликим Янусом, обращенным и к биологии, и к социологии. Экспансия марксизма в конце XIX – начале XX века совпала со все нараставшей волной социоисторических идей в психологии.
Известный американский психолог Д. Болдуин, в частности, назвал в 1913 году «Капитал» Маркса в числе работ, под воздействием которых произошел коренной переворот во взглядах на соотношение индивидуального и общественного сознания. Это было сказано Болдуином не попутно, а в книге «История психологии», сам жанр которой предполагал общую оценку эволюции одной из наук. В книге речь шла только о западной психологии.
Нельзя ничего сказать по поводу того, оказал ли марксизм влияние на дореволюционную психологическую мысль, хотя его всеопределяющая роль в движении России к 1917 году изучена досконально. Нет заметных следов увлечения им в предсоветский период и молодыми учеными (Л.С. Выготский, П.П, Блонский, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.), которым предстояло вскоре стать главными фигурами в новой психологии.
Реактология и рефлексология ориентируются на марксизм
В новой России воцарялась новая духовная атмосфера. В ней утверждалась вера в то, что учение Маркса всесильно не только в экономике и политике, но и в науке, в том числе психологической. Даже идеалист Челпанов, директор Московского института психологии, заговорил о том, что марксизм и есть то, что нужно его институту. Правда, Челпанов оставлял на долю марксизма только область социальной психологии, индивидуальную же по-прежнему считал глухой к своему предмету, когда она не внемлет «голосу самосознания». Между тем вопрос о том, каким образом внести в психологию дух диалектического материализма, приобретал все большую актуальность. К ответу побуждал не только диктат коммунистической идеологии с ее агрессивной установкой на подчинение себе научной мысли. Ситуация в психологии приобрела характер очередного кризиса, на сей раз более катастрофического, чем предшествующие. Это был всеобщий, глобальный кризис мировой психологии.
Еще в 1926 году Л.С. Выготский, осознавший себя приверженцем марксистской реформы психологии, написал свой главный теоретический трактат, в котором попытался объяснить, в чем же заключается общеисторический (а не только локально-русский) смысл психологического кризиса. Молодая поросль советских психологов, к которой Выготский принадлежал (это было поколение двадцати-тридцатилетних), с энтузиазмом восприняла в идейном климате начала 20-х годов, когда повсеместно шла ломка старого, призыв преобразовать психологию на основах диалектического материализма. Лидером движения стал, в прошлом сотрудник Челпанова, К.Н. Корнилов. Не имея фундаментального философского образования, он перевел ряд сложных положений марксизма на уровень тогдашней «политграмоты».
Впервые в истории психологии марксизм приобрел силу официальной и обязательной для нее доктрины, отказ от которой становился равносильным оппозиции государственной власти и тем самым караемой ереси. Очевидно, что ситуация в данном случае существенно отличалась от описанной Болдуином. Этот американский автор, анализируя положение дел в психологии, отметил, что под влиянием Маркса наметился поворот в понимании вопроса о соотношении индивидуального сознания (как главной темы психологии) и социальных факторов. К этому западных психологов направляло знакомство с «Капиталом» Маркса, а не с комиссарами и чекистами, вернувшимися с полей гражданской войны, чтобы в социалистической, а затем в коммунистической академии и других учреждениях партийного «агитпропа» воевать за новую идеологию.
Уже тогда заработал аппарат репрессий, и высылка в 1922 году большой группы ученых-гуманитариев (в том числе автора книги «Душа человека» С.Л. Франка, профессора психологии И.И. Лапшина и др.) стала сигналом предупреждения об остракизме, грозящем каждому, кто вступит в конфронтацию с марксистской философией. Это вовсе не означало, что пришедшая в психологию молодежь (воспитанная в чуждом марксистской философии духе) встала под освященное властью государства знамя из чувства самосохранения. В действительности она искала в новой философии научные решения, открывающие выход из контроверз, созданных, как было сказано, общим кризисом психологической науки, а также специфической ситуацией в России. Здесь сложившееся в дореформенный период, восходящее к Сеченову естественнонаучное направление переживало в послеоктябрьские годы великий триумф, выступив в виде наиболее адекватной материалистическому мировоззрению картины человека и его поведения (учения И. П. Павлова, В.М. Бехтерева, А.А. Ухтомского и др.). Под именем рефлексологии оно приобрело огромную популярность.
В ее свете навсегда померкли искусственные, далекие от жизни, от удивительных успехов естествознания схемы аналитически интроспективной концепции сознания. Но именно эта концепция традиционно идентифицировалась с психологией как особой областью изучения субъекта, его внутреннего мира и поведения. Возникла альтернатива: либо рефлексология, либо психология.
Что касается рефлексологии, то учеников Павлова и Бехтерева (но не самих лидеров школ) отличал воинствующий редукционизм. Они считали, что серьезной науке, работающей объективными методами, нечего делать с такими темными понятиями, как сознание, переживание, акт души и т.п. Их притязания, получившие широкую поддержку, отвергла небольшая (в несколько человек) группа начинающих психологов. Признавая достоинства рефлексологии, для которой эталоном служили объяснительные принципы естествознания, они надеялись придать столь же высокое достоинство своей науке. Вдохновляла их версия диалектического материализма, которая рассматривала психику как особое, нередуцируемое свойство высокоорганизованной материи (принадлежащая, кстати, не марксизму, а французскому материализму XVIII века). Эта версия воспринималась в качестве обеспечивающей перед лицом рефлексологической агрессии право психологии на собственное место среди позитивных наук и утверждающей собственный предмет (не отступая от материализма).
В ситуации качала 20-х годов, которую определяла альтернатива: либо рефлексология, либо отжившая свой век субъективная эмпирическая психология (а другая в русском научном сообществе тогда не разрабатывалась), – именно обращением к марксизму психология обязана тем, что не была сметена новым идеологическим движением, обрушившимся на так называемые психологические фикции (среди них значилось также представление о душе). Казалось, именно учение о рефлексах проливает свет на истинную природу человека, позволяя объяснять и предсказывать его поведение в реальном, земном мире, без обращения к смутным, не прошедшим экспериментального контроля воззрениям на бестелесную душу.
Еще раз подчеркнем, что это была эпоха крутой ломки прежнего мировоззрения, стало быть, к прежней «картины человека». Рефлексологию повсеместно привечали как образец новой картины, и ее результаты вовсе не являлись в те времена предметом обсуждения в узком кругу специалистов по нейрофизиологии. Рефлексология переместилась в центр общественных интересов, преподавалась (на Украине) в школах, увлекала деятелей искусства (к примеру, В. Мейерхольда, а павловская физиология высшей нервной деятельности – К. Станиславского). По поводу нее выступали и философы, и вожди партии (Н. Бухарин, Л. Троцкий).
Защищая отвергнутую рефлексологами категорию сознания, ее немногочисленные приверженцы надеялись наполнить ее новым содержанием. Но каким? К марксизму обращались с целью «примирить» три главных противопоставления, сотрясавших психологию и воспринимаемых как симптомы ее грозного кризиса. Споры вращались вокруг вопроса о том, как соотносятся телесное (работа организма) и внутрипсихическое (акты со знания), объективное (внешне наблюдаемое) и субъективное (в образе, данном в самонаблюдении), индивидуальное (поскольку сознание неотчуждаемо от индивида) и социальное (поскольку личное сознание зависит от общественного). Эти антитезы возникали перед каждым, кто отважился вступить на зыбкую почву психологии. Взятое К.Н. Корниловым из арсенала экспериментальной психологии понятие о реакции родилось в попытках примирить указанные антитезы под эгидой диалектического материализма.
Реакция и объективна, и субъективна, и телесна, и нематериальна (хотя способность материи являть особые нематериальные свойства – это нечто рационально непостижимое). Она индивидуальна и, в то же время, представляет собой реакцию на социальную (точнее, «классовую») среду.
Разъятые и противопоставленные друг другу ряды явлений сцеплялись в общем понятий (с расчетом на то, что они не утратят при этом своей специфики). В таком подходе усматривалось преимущество марксистской диалектики, одним из стержневых начал которой служит принцип диалектического единства. С тех пор ссылка на диалектическое единство стала «палочкой-выручалочкой» во всех случаях, когда мысль не могла справиться с реальными трудностями выяснения связей между различными порядками явлений. Термин «единство» в лучшем случае намекал на неразлучность этих связей. Но сам по себе он не мог обеспечить приращение знаний об их динамике и логике, детерминационных отношениях.
При всей ограниченности методологических ресурсов реактология Корнилова открыла путь к новым контактам психологии с марксизмом. Интересна и позиция Л.С. Выготского. Говоря о важности для психологии обрести новую методологию, он подчеркнул: «Работы Корнилова кладут начало этой методологии, и всякий, кто хочет развивать идеи психологии и марксизма, вынужден будет повторять его и продолжать его путь. Как путь эта идея не имеет себе равной по силе в европейской методологии». Это писалось не в 1924 году, когда Выготский был принят на работу в институт, где директорствовал Корнилов, а в 1927 году, когда он, Выготский, как свидетельствует процитированная мысль, пришел к принципиально иному, решительно отличному от корниловского, пониманию отношений между философией и конкретной наукой – с одной стороны, природы и структуры самой этой науки – с другой (см. ниже). Тем не менее, именно реактология идентифицировалась в тот период (середина 20-х годов) с марксизмом в психологии. Нapяду с ней процветала, как сказано, рефлексология, освященная великим авторитетом В.М. Бехтерева. Обе они совместно с учением И.П. Павлова воспринимались на Западе как «русские психологические школы». Так их назвал в известной книге «Психологии 1930» Карл Марчесон, предоставив в ней слово наряду с Адлером, Келером, Жане и другими знаменитостями Павлову, Корнилову, а от имени рефлексологии Бехтерева (к тому времени, как тогда, да и позднее, предполагали, отравленного по распоряжению Сталина за поставленный диктатору психиатрический диагноз) – Александру Шнирману.
И.П. Павлов шел своим путем. Но и его затронули веяния времени. Своими соображениями о второй сигнальной систеые он явно вводил фактор, указывающий на решительное отличие человеческого уровня организации поведения от животного, притом фактор, который представлял социальный мир и его порождение язык. Сохранились намеки на интерес Павлова к популярным в те времена апелляциям к диалектике.
Что касается реактологии и рефлексологии, то оба направления с различной степенью настойчивости заверяли о своей приверженности марксизму и диалектическому методу. Различия между направлениями становятся все менее значимыми. «Диалектический материализм в психологии (школа Корнилова), – отмечал Шнирман в книге «Психологии 1930», – близок рефлексологии, поскольку он стремится базировать свое учение на принципах диалектического материализма. Однако, вопреки большой эволюции, которую эта школа проделала на пути к объективизму, она не смогла полностью порвать со старым психологическим аутизмом, так как она оказалась неспособной отвергнуть само имя «психологии». Следы методологического аутизма, а потому и идеализма, до сих пор можно найти в этой школе».
Что касается Корнилова, то его рассказ о реактологии в этой книге содержал пространное изложение взглядов Маркса и Энгельса на психику со ссылкой на законы диалектики и на важность изучения реакции отдельного человека с социально-классовой точки зрения (это подкреплялось авторитетом Бухарина и Плеханова). Говоря о конкретно-научных достижениях реактологии, Корнилов прежде всего упоминал изучение А. Р. Лурия эффективных реакций у преступников.
Перепалка между реактологической и рефлексологической группами не имела серьезного теоретического значения. Это стало очевидно и для адептов обоих на правлений. Корнилов стал звать к их единению. Он писал: «не вести же борьбу из-за одних лишь наименований. Тем более, что это наименование и предрешено, ибо и здесь, как и во всех других сферах жизни, марксизму и только марксизму принадлежит ближайшее будущее».
Среди рефлексологов появилась энергичная молодежь, также потребовавшая замирения с психологами. Она призывала, обращаясь к сторонникам, реактологии, уточнив понятие реакции, «полностью преодолеть субъективную психологию», а рефлексологов — открыто признать свои ошибки.
Однако единения, на которое рассчитывали обе стороны, не получилось. Вопреки их клятве в верности диалектическому материализму, они были на рубеже 20-х и 30-х годов изобличены в измене ему и разгромлены с «истинно партийных» позиций в специально организованных так называемых рефлексологических и реактологических дискуссиях.
Л.С.Выготский и проблема марксизма в психологии
В годы, когда разгорелась жаркая полемика между реактологами и рефлексологами, примирившимися в конце концов на общей приверженности философии марксизма, независимо от них Л.С. Выготский размышлял о том, что же эта философия может дать сотрясаемой кризисами психологии. Он шел к ней собственным путем, и его решения и поиски разительно отличались от всего, что говорилось по этому поводу в тогдашних журналах и брошюрах. Его главные мысли стали известны научному социуму через 50 лет.
Печать трагизма лежит на личности и творчестве Л.С. Выготского. Это сказывается, в частности, и в том, что он не увидел опубликованными свои главнейшие труды, в том числе такие, как «Психология искусства», «Исторический смысл психологического кризиса», «История развития высших психических функций», «Орудие и знак», «Учение об эмоциях», «Мышление и речь». При его жизни вышли из печати только «Педагогическая психология» и несколько пособий по педологии для заочного обучения. Подавляющая часть рукописей увидела свет через несколько десятилетий. Выготский не мог не ощущать глубокий личностный дискомфорт от того, что самое для него сокровенное не стало достоянием научного сообщества.
Выготский прочел Маркса другими глазами, чем современники, и он не искал в нем готовых формул, а вел диалог, вслушиваясь при этом во множество голосов научного сообщества его эпохи.
Только удерживая его в этой зоне «слышания», смог Выготский дать свой ответ на вопрос о смысле кризиса и перспективе марксизма в психологии. Смысл, если кратко определить, он видел в незримой за борьбой школ, исторически созревшей и диктуемой социальной практикой потребности в «общей психологии», которая понималась им не как изложение общих проблем психологии и ее основных учений, а как система категорий и принципов, организующих производство знаний в данной области, строящих именно эту предметную область в отличие от других.
Тем самым в «теле» психологии различались ее теоретико-эмпирический состав, т.е. материал концепций и фактов, из которых она строится, и способ его организации и разработки. Этот способ и есть не что иное, как методология научного познания. В дискуссиях той поры ею повсеместно считался диалектический метод в его перевернутом Марксом «с головы на ноги» гегелевском варианте.
Первый важный шаг Выготского состоял в разделении двух уровней методологического анализа: глобально-философского и конкретно-научного. Это позволило сразу же по-новому решать вопрос о марксизме в психологии. Корнилов и те, кто следовал за ним, не проводили различий между двумя уровнями и сразу же «сталкивали лбами» пресловутые законы диалектики с частными психологическими истинами. Согласно же Выготскому, «общая психология» (или как он ее еще называл, «диалектика психологии») имеет свои законы, формы и структуры. В доказательство этого тезиса он апеллировал к политэкономии Маркса, которая оперирует не гегелевской триадой и ей подобными «алгоритмами», а категориями «товара», «прибавочной стоимости», «ренты» и др. Метод же, который в этом случае применяется, Выготский назвал аналитическим.
Выготский, излагая свои соображения об аналитическом методе, трактует его как строго объективный. Путем мысленной абстракции создается такая комбинация объективно наблюдаемых явлений, которая позволяет проследить сущность скрытого за ними процесса.
В качестве образцов применения аналитического метода в естественных науках Выготский ссылался на от крытия Павлова, Ухтомского и Шеррингтона. Ставя опыты на животвых, они ничего не прибавили к изучению собак, кошек и лягушек как таковых, но они открыли посредством указанного метода общие законы нервной деятельности. Весь «Капитал», по Выготскому, написан этим методом. В «клеточке» буржуазного общества (форме товарной стоимости) Маркс «прочитывает структуры всего строя и всех экономических формаций».
Такой же метод, по его мнению, нужен психологии. «Кто разгадал бы клеточку психологии – механизм одной реакции, – нашел бы ключ ко всей психологии». Итак, адекватная марксистской методологии стратегия изучения сознания им виделась в открытии его «клеточки», причем в качестве таковой был назван «механизм одной реакции».
Вскоре Выготский стал принимать за «клеточку» другие психические формы. Выстраивая их в восходящий ряд, можно проследить «генеалогию» и основные периоды его творчества: сперва «инструментальный акт», затем «высшая психическая функция», «значение», «смысл», «переживание». Поисками пресловутой «клеточки» за нимались после Выготского многие психологи. И неудивительно, что безуспешно, ибо структура и динамика психической организации по самой своей сути «многоклеточны» и потому из одной «единицы» или «молекулы» невыводимы.
Для Л.С. Выготского был неприемлем сам стиль мышления, зародившийся в начале 20-х гг., а затем на десятилетия определивший характер философской и методологической работы в советской науке, в том числе психологической. Вопреки догмату, согласно которому в трудах классиков заложены основополагающие идеи о психике и сознании, которые остается лишь приложить к конкретной дисциплине, он подчеркивал, что научной истиной о психике не обладали «ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов... Отсюда фрагментарность, краткость многих формулировок, их черновой характер, их строго ограниченное контекстом значение».
Официальная идеология ставила на каждой букве в текстах классиков знак непогреишмости. Поэтому столь вольное с ее позиции обращение с этими каноническими текстами не могло быть воспринято иначе, как «еретическое». Да и в предперестроечные времена, когда трактат Выготского о кризисе психологии наконец-то удалось опубликовать, оно воспринималось как недооценка вклада классиков марксизма. Выготский же считал, что по «Капиталу» Маркса следует учиться не объяснению природы психики, а методологии ее исследования.
Вместе с тем, вчитываясь в Маркса, он почерпнул у него две идеи, осмыслив их соответственно логике собственного поиска. Идея Маркса об орудиях труда как средствах изменения людьми внешнего мира и в силу этого своей собственной организации (стало быть, и психической) преломилась в гипотезе об особых орудиях – знаках, посредством которых природные психические функции преобразуются в культурные, присущие человеческому миру в отличие от животного. Гипотеза дала жизнь исследовательской программе по инструментальной психологии, которая стала разрабатываться сразу же после трактата о кризисе психологии. Если эта программа составила эпоху в деятельности школы Выготского, то вторая программа сохранилась в виде некой «завязи», не получившей дальнейшего развития. К ней Выготский обратился, когда в его руки попала книга французского психолога-марксиста Ж. Политцера, где был набросан проект построения психологии не в терминах явлений сознания или телесных реакций, а в терминах драмы. За единицу анализа принималось целостное событие жизни личности, ее поступок, имеющий смысл в системе ролевых отношений.
Мысль Л.С. Выготского о том, что в центр психологии должна переместиться (взамен отдельных процессов) целостная личность, развитие которой исполнено драматизма, стало доминантой последнего периода его творчества. Выготский пишет блестящий трактат (также оставшийся незавершенным), где излагалась история учения об эмоциях от Декарта до Кеннона (не чисто описательная, но методологически ориентированная история).
Ее изложение имело своей сверхзадачей доказать, что ключ к научному объяснению эмоций следует искать у Спинозы (по недоразумению этот трактат иногда озаглавливали «Спиноза»). Со времен юности Спиноза неизменно был главным философским кумиром Выготского. Но идеи XVII века не могли решить научные задачи XX века. Делясь воспоминаниями о Выготском, Б.В. Зейгарник (работавшая вместе с Выготским в психиатрической клинике) сообщила, что еще в 1931 году Выготский говорил об «аффективной деменции», т.е. расстройствах умственной деятельности, вызванных слабостью ее эмоциональной подкрепленности.
Отныне предполагается, что «ткань» сознания образуют две «клеточки»: значение и смысл. Понятие о значении (умственном образе) слова было изучено в школе Выготского под углом зрения его эволюции в индивидуальном сознании, подчиненной собственным психологическим (а не историко-лексическим) факторам. И здесь его главные открытия.
Понятие о смысле слова указывало не на его контекст (как обычно предполагается), в котором оно обретает различные оттенки, а на его подтекст, таящий аффектно-волевую задачу говорящего. К представлению о подтексте Выготский пришел под влиянием К.С. Станиславского. Вновь (как и в проекте психологни в терминах драмы) опыт искусства театра обогатил научную психологию. Но этим Выготский не ограничился.
Наряду с этой линией мысли он во внутреннем строе личности выделяет еще одну «клеточку» – переживание. Древний термин приобретал в различных системах различные обличья, в том числе неизменно вызывавшие резкую критику Выготского. «Действительной, динамической единицей сознания, т.е. полной, из которой складывается сознание, будет переживание», — заключает он.
Во второй половине 20-х гг. в стране произошел социальный переворот –экономический, политический, идеологический. Наступила эпоха сталинщины. Наряду с карательными органами на службу репрессированной научной политике была поставлена философия; из которой вытравлялись следы творческого и критического духа марксизма.
«Обвинительный уклон», отличавший выступления тех, кто собрался «под знаменем марксизма», распространился и на психологию. Одним из первых подал сигнал (в 1931 году) изменивший рефлексологии Б.Г. Ананьев. «В психологии, – заявил он, – не должно быть никаких школ, кроме единственной, основанной на трудах классиков марксизма», к лику которых он тогда же, раньше других, причислил Сталина. Наряду с беспартийным Ананьевым ретивую активность развили молодые коммунисты из Московского института психологии. Главным занятием, поглотившим их энергию, стало изобличение в идеологических грехах различных школ и концепций, среди которых оказались рефлексология Бехтерева, учение Павлова о высшей нервной деятельности, реактология Корнилова, психотехника Шпильрейна, «бихевиоризм» Боровского, «культурническая» концепция Выготского и Лурия и др. Все многоцветье идей и направлений, определивших картину исканий прежних лет, было замазано черной краской. На смену диалогу с марксизмом пришла операция «склеивания цитат». Хотя это делалось руками самих психологов, а не партаппаратчиков, ментальность последних на многие годы пропитала теоретическую работу в науке. Тогда же была заклеймлена группа Выготского как ведущая к «идеалистической ревизии исторического материализма и его конкретизации в психологии».
Уверенность Выготского в обусловленности психических процессов условиями социальной жизни заронила идею изучения сдвигов в чувственном восприятии и мышлении, вызываемых овладением грамотой, включением в более развитую культуру. В 1929 году появилась его заметка о плане научно-исследовательской работы по педологии национальных меньшинств. Вскоре была отправлена экспедиция в Узбекистан, которую возглавил Лурия. Участники экспедиции надеялись, используя тесты, интервью и т.п., провести сравнительный анализ уровней развития сознания у различных категорий аборигенов исходя из гипотезы о том, что у того, кто включился в колхозное строительство и обучение в различного типа школах, изменяется строй восприятия и мышления. Работу экспедиции стали в Москве ассоциировать со стремлением затеявших ее психологов поставить мышление неграмотных людей (в данном случае в среднеазиатском регионе) в один ряд с первобытным, качественно отличным от современного. Это дало повод инкриминировать этим психологам приверженность чуждой марксизму идеологии.
Волна разоблачений и «саморазоблачений», которая прокатилась после постановления ЦК ВКП(б) от 1931 года, поглотила среди других психологических концепций и «культурно-историческую» теорию Выготского.
Л.С. Выготский разделял внешние и внутренние факторы развития науки. Он относил материалистические или идеалистические влияния к разряду первых. «Внешние факторы толкают психологию по пути ее развития... но не могут отменить вековую работу» в самой психологической науке.
Итак, марксизм как «внешний фактор» представлялся Выготскому как фактор, имеющий для психологии эвристическую ценность в пределах, в каких он способен содействовать развитию ее собственной внутренней логической структуры знания. Очевидна несовместимость этого воззрения со сложившейся в те годы и надолго сохранившейся установкой – от Корнилова до Леонтьева – на создание особей марксистской психологии как «высшего этапа», преимущества которого обусловлены его враждебной миру частной собственности классовой сущностью.
С.М.Морозов Экзистенциальный вектор деятельности. Т.2. М., 2013, с.83-108.
Деятельность
Один из наиболее существенных моментов, от которого зависит адекватная теоретическая разработка психологической (как и любой другой) методологии — создание категориального аппарата, который удовлетворял бы потребность научного (психологического) сообщества во взаимодействии. К сожалению, пренебрежительное отношение к теории ведет, за редким исключением, к аналогичному пренебрежению наполнением психологических категорий соответствующим содержанием.
Одно из наиболее важных направлений отечественной психологии — теоретическая проработка категории «деятельность». Нельзя сказать, что в последние десятилетия эта линия исследований оказалась в полном забвении. Однако трудно не заметить, что число ее сторонников заметно сократилось. Вряд ли есть резон перечислять причины, приведшие к такому положению. Среди них есть и объективные, и субъективные факторы. Наша задача состоит в другом. Ее мы видим в наполнения этой категории содержанием, которое должно учитывать тенденции развития отечественной психологии, среди которых наиболее важной нам представляется интеграция этой категории в контекст методологических разработок, созданных мировой психологией в XX столетии.
Естествоиспытатели попытались выделить среди чувственно воспринимаемых человеком явлений такое, которое позволило бы как можно «ближе» подойти к психологическим явлениям. В свое время психологи-бихевиористы предложили в качестве такого объекта поведение человека. Именно в постоянном диалоге с бихевиоризмом происходило становление отечественной культурно-деятельностной парадигмы.
Когда пришедший в психологию Л. С. Выготский начинает пользоваться рефлексологической терминологией, он выдвигает одну методологически очень важную мысль. Выготский говорит следующее. Да, действительно, все в мире рефлекс. Но что такое рефлекс? Некоторое воздействие извне на человека, на которое человек отвечает. Книга, которую мы читаем, воздействует на нас? Воздействует. Музыка, которую мы слушаем? Воздействует. Мы реагируем на эти воздействия? Реагируем.
Но то же самое мы можем сказать и про любое животное. Реагирует ли амеба на световое воздействие? Реагирует. Отдергивает ли лапу лягушка, если к ней поднести кислоту? Отдергивает. И Выготский говорит: все в мире рефлекс. Но скажите, продолжает он, чем же один рефлекс отличается от другого. Ведь это — совершенно разные проявления жизнедеятельности. И амеба реагирует на свет, и человек реагирует на роман Достоевского. Разве это одно и то же? Разумеется, нет. Это качественно разные реакции. Человеческий «рефлекс» — это совершенно другое. Человек, кроме условных и безусловных рефлексов, — что демонстрирует его родство с животными, — является носителем исторического, социального опыта и способности превращать свои образы в предметы, то есть способности трудиться. Отсюда вывод, который делает Выготский: слово «рефлекс», распространенное на совершенно разные сферы, перестает что-либо объяснять. Оно уже не работает как научный термин.
Кроме того, поведение не есть цепочка одиночных ответов на одиночные внешние воздействия. Это не телефонная станция, с которой сравнивает большие полушария головного мозга Павлов. Скорее «наша нервная система напоминает узкие двери в каком-либо большом здании, к которым в панике устремилась многотысячная толпа; в двери могут пройти только несколько человек; прошедшие благополучно — немногие из тысячи погибших, оттесненных. Это ближе передает тот катастрофических характер борьбы, динамического и диалектического процесса между миром и человеком и внутри человека, который называется поведением» [Выготский, 2003, с. 28].
Но дело не только в физической интенсивности тех или иных стимулов. Сила стимула (громкость звука или яркость визуального раздражителя), конечно, играет свою роль, но не выражает специфику взаимодействия человека и мира. Иначе как можно объяснить, что не только стимулно-реактивные связи протекают по закону «воронки», но и «от низших форм реакции к высшим ведет как бы суживающееся отверстие» [Выготский, 2003, с. 98]? Значит, так же, как «реакция организма… отбирает стимулы», высшие формы «отбирают» низшие. Здесь ясно видна общая диалектическая позиция Выготского, в соответствии с которой низшее должно объясняться через высшее. Здесь уже не просто динамика, но переход к диалектике, перешедшей затем в психологическую теорию деятельности, одна из самых фундаментальных идей которой «заключается в том, что любой живой организм и среда его обитания абсолютно нераздельны, так как жизнь любого организма — это постоянно себя воспроизводящее динамическое взаимодействие» [Стеценко, 2006, с. 19]. Отсюда уже упоминавшийся нами вывод о том, что положительная роль психики состоит не в отражении, а в том, чтобы субъективно искажать действительность в пользу организма.
Но тут Выготский начинает излагать свои представления о сознании. Если больше ничего из Выготского не читать, то сложится впечатление: перед нами апологет бихевиоризма. Одно только сравнение сознания с «рефлексом рефлексов» чего стоит… Но это — если больше Выготского не читать. И если не читать бихевиористов. Ведь сама постановка проблемы сознания — антибихевиористична. Бихевиоризм отрицает сознание как предмет исследования. Выготский же, наоборот, пытается сознание вернуть в психологию. Причем эту попытку он сопровождает предположением, что сознание изначально недоступно непосредственному наблюдению, поскольку представляет собой внутреннее явление: внутренний рефлекс.
Здесь намечается полный пересмотр методологии бихевиоризма. Пускай при помощи старых терминов. Не в этом дело. Сами ярлыки-знаки не имеют первостепенного значения. Важно содержание, которое за ними стоит. Важна методология, которая объединяет эти ярлыки в единую систему. А методология здесь совсем не бихевиористская. Нет сомнений: бихевиоризм произвел наибольшее впечатление на Л. С. Выготского. Нельзя сказать: оказал влияние. Влияние оказал скорее Ж. Пиаже со своей идеей синкретизма, из которого прорастает понятие ребенка. А вот бихевиоризм стал той питательной почвой, на которой смогла вырасти блестящая культурно-историческая теория.
Нет ничего удивительного в том, что Выготский начинает свой научный путь, обильно используя поведенческую терминологию. Во-первых, бихевиоризм в 20-е годы прошлого века был одной из наиболее популярных теорий. Во-вторых, родиной поведенческой психологии была Россия. Сеченов, Павлов, Бехтерев, Корнилов — эти имена были на слуху каждого российского исследователя. (Более того, Корнилов был прямым начальником Выготского.) Наконец, в-третьих, рефлексология в большой степени была поддержана официальной идеологией, победившей в России: поведенческая психология казалась сильным аргументом в пользу материализма. Поэтому использование терминологии, бытовавшей в психологии того времени, не должно нас удивлять. Удивить нас может другое. Выготский сразу же вступил в спор с поведенческой психологией. Уже в первой своей большой статье Выготский вступает в полемику с рефлесологией.
В 1924 году недавно переехавший в Москву из провинциального Гомеля Лев Семенович Выготский — тогда еще мало кому известный психолог — опубликовал статью «Сознание как проблема психологии поведения». На первой же странице он излагает критические замечания по поводу недавно вышедшей книги В. М. Бехтерева «Основы общей рефлексологии человека». Выготский укоряет Бехтерева в том, что тот в своем учении охватывает все мироздание: от простейшей реакции до принципа относительности, но не находит в нем места для психологических законов, которые характеризовали бы своеобразие человеческого поведения, в отличие от поведения животного: «Несоответствие крыши и фундамента, отсутствие самого здания между ними легко обнаруживают, насколько рано еще формулировать мировые принципы на рефлексологическом материале и как легко взять из других областей знания законы и применить их к психологии» [Выготский, 2003, с. 19].
Кто бы мог тогда подумать, что автор этой статьи всерьез решил заполнить тот вакуум, который существовал в психологической науке между поведенчески-физиологическими теориями и теоретическими построениями, претендовавшими на звание психологической методологии. Но Выготский совершил чудо. За десять лет, которые отвела ему судьба, он создал такое психологическое строение, которое выдержало десятилетия внимательного критического рассмотрения как со стороны учеников и последователей, так и со стороны недоброжелателей. Более того, сегодня все большее число психологов склоняется к мысли, высказанной Д. Б. Элькониным [Эльконин, 1989] о «неклассичности» психологической теории Выготского [Асмолов, 2001, 2004; Соколова, 2001; Стеценко, 2004, 2006].
Когда Выготский вступил на путь психолога, рефлекс занимал место главного объяснительного принципа. Конечно, были и гештальт, и бессознательное, и другие объяснения предмета психологии. Но ничто не могло сравниться с рефлексом. Благодаря своей предельной теоретической прозрачности, необычайно легкой операционализации, использовавшейся при переносе экспериментальных данных с животных на человека, рефлекс (и его сестра реакция) превратился в доминанту эйфорически настроенных психологов.
Конечно, не следует совсем отрицать стимульно-реактивный принцип. Человек, как существо естественное, конечно, несет в себе и законы рефлекторного отражения. Эти законы представляют собой «большую истину» науки (Н. Бор). Но эти законы ни в коем случае не выражают специфики взаимодействия человека с окружающим его миром. Во-первых, принцип рефлекторной дуги даже на уровне двигательных проявлений человека не может служить единицей анализа.
Уже потом, после работ Л. С. Выготского приобрели известность труды физиолога Н. А. Бернштейна и выдвинутый им принцип рефлекторного кольца. Эта идея состоит в том, что афферентное и эфферентное звенья рефлекса не представляют собой дугу, как это мыслилось рефлексологами, но представляют собой замкнутую цепь, в которой афферентные звенья постоянно корректируются вновь поступающими сигналами из внешнего мира.
Другая кардинальная линия становления категории «деятельность» заключается в противостоянии физиологическому редукционизму. И здесь на первый план выходит теория А. Н. Леонтьева. Сегодня не так уж неожиданно выглядит точка зрения, в соответствии с которой «психическая деятельность и невозможна без физиологических процессов, и в то же время не сводится к ним» [Леонтьев и др., 2005, с. 150]. Однако в начале прошлого века все было по-другому. Одной из наиболее популярных интерпретаций предмета психологии была интерпретация его в терминах физиологии. Одними из первых в контексте естественно-научной парадигмы этот подход был подвергнут сомнению бихевиористами. Уже Дж. Уотсон отметил, что субстратом психики не может являться мозг. Более определенно об этом стал говорить Э. Толмен, утверждавший, что основой предмета психологии являются не «молекулярные» физиологические процессы, а «молярный» феномен поведения [Толмен, 1997, с. 144].
Бихевиористы, — указывает А. Н. Леонтьев, — «отличают поведение от осуществляющих его процессов. Они, однако, рассматривают их различие как различие целого и части; рефлекс — часть; реакция, поведение — целое» [Леонтьев, 1999, с. 324]. Впрочем, сам А. Н. Леонтьев не был последователен в своем отрицании физиологизма. Если для Л. С. Выготского предмет психологии — «целостный психофизиологический процесс поведения» [Выготский, 1982а, с. 141], то для Леонтьева физиологическое есть основа деятельности, которая, в свою очередь, есть основа психического, что ярко проявилось в концепте «психофизиологических блоков», которые, как некоторое время считал Леонтьев, представляют собой «единицы», составляющие физиологическую основу деятельности.
Впрочем, для А. Н. Леонтьева непоследовательность в теоретических взглядах была характерна не только в данном вопросе. Так, с одной стороны, он вспоминает о своем «антигенотипизме», который объединял его с Т. Лысенко. С другой стороны, его работы в дальнейшем стали настолько радикальны, что в 1951 году сам Ю. А. Жданов обвинил его в идеализме — обвинение более чем серьезное (см.: [Леонтьев и др., 2005, с. 383]).
А поводов для таких «обвинений» было достаточно. После так называемой «Павловской» сессии советские психологи хоть и снизили свою требовательность по поводу однозначно «мозговой» трактовки психики, но качественно свою точку зрения не изменили. «Учение Павлова нельзя представлять как догму… Оно должно развиваться и углубляться», — пишет идеолог советских марксистов академик Митин [Митин, 1963, с. 27]. Но «перед психологией стоит задача глубокого и тонкого анализа психических процессов как аналитико-синтетической деятельности коры мозга», — пишет А. А. Смирнов [Смирнов, 1953, с. 41], точно формулируя традиционный для советской психологии взгляд на предмет психологии: «Психология изучает психические процессы как отражение реальной действительности, как субъективный образ объективного мира, возникающий в мозгу человека под действием предметов реального мира, формирующийся в процессе жизни людей, в процессе их активного воздействия на мир, и получающий свое объективное выражение в разнообразных видах деятельности человека» [Смирнов, 1953, с. 32]. Ему вторит другой советский психолог Б. М. Теплов: «Предметом научной материалистической психологии является психика человека, понимаемая как "функция того особенно сложного куска материи, который называется мозгом человека" (Ленин), функция, заключающаяся в отображении объективной реальности, существующей независимо от сознания. Предметом психологии является психика человека в ее обусловленности объективными условиями существования и той объективной деятельностью, которая составляет содержание жизни человека» [Теплов, 1953, с. 54].
В советской психологии традиционно сильные позиции занимала трактовка психики, в соответствии с которой материальным субстратом психики является мозг. Под влиянием идей, заложенных в трудах представителей физиологического направления конца XIX — начала XX века, исследователи, принявшие эту концепцию, считали деятельность объективным «выразителем» психики или фактором, обусловливающим психику. В контексте этой концепции, догматизирование источников которой было подвергнуто критике в середине 60-х годов, психика нередко сводилась к аналитико-синтетической деятельности мозга.
Разумеется, в такой атмосфере взгляды А. Н. Леонтьева выглядели поистине вызывающе. Ведь фактически из его трудов легко выводилась мысль о единстве физиологического и психологического. «В этом онтологическом единстве физиологического и психического психическое является решающим, "системообразующим" фактором… В дискуссии 1969 года, обобщая весь пройденный путь, А. Н. Леонтьев сформулирует эту принципиальную позицию очень четко: "Невозможно движение восхождения — от мозга к неким процессикам, от процессиков к более сложным образованиям, и наконец к сложению жизни. Нет, от жизни к мозгу, а никогда от мозга к жизни…"» [Леонтьев А. А., 2001, с. 65]. Это действительно фундаментальное, можно сказать, революционное (для психологии) положение. «Не особенности динамики мозговых процессов задают особенности предметной деятельности. Деятельность задает физиологически реализующие ее процессы, сама подчиняясь тем общественно-историческим условиям, тем социальным отношениям, в которые всякая человеческая деятельность неизбежно включена» [Леонтьев, 2004, с. 298].
Мы только что назвали подмеченную двойственность теории А. Н. Леонтьева непоследовательностью. Однако это не ошибка одного исследователя. В начале прошлого века одной из наиболее популярных интерпретаций предмета психологии была его интерпретация в терминах физиологии. В советской, да и в мировой (материалистической) психологии физиологическое и социологическое постоянно находились в неоднозначных отношениях. С одной стороны, срабатывал закон эволюции, в соответствии с которым сложное происходит из простого, а значит, как более сложный, психологический процесс есть продукт процесса биологического, в частности — физиологического. С другой же стороны, диалектический материализм, в верности которому клялись советские психологи, предписывал в качестве основной прямо противоположную логику: из сложной социологической основы выводить все остальные, вплоть до физиологических процессов.
Стоит специально подчеркнуть: есть особый телесный орган, который во все времена трактовался как такая часть тела, без которой невозможно функционирование психики. Этот орган — мозг. В советской психологии традиционно сильные позиции занимала трактовка психики, в соответствии с которой именно мозг является материальным субстратом психики. Эту особенность отечественной психологии нельзя трактовать только как влияние марксистской идеологии. Необходимо учитывать и общие тенденции развития мировой психологии, в частности, отношение психологов к предмету своей науки. З. Фрейд в конце своего творческого пути (в работе «Я и Оно») писал о неприятии психологическим сообществом идеи психики без сознания. Эта мысль, конечно, не была вполне новой. По крайней мере, размышления об онтологии внутреннего мира человека приводят, например, Гербарта к идее о бессознательной психике, а вслед за этим — к идее математизации психологии. Затем эта идея получила свою дальнейшую разработку в психофизике Вебера и Фехнера. Но партия психологов, отрицавших существование бессознательных психических процессов, обладала, конечно, существенным перевесом. В итоге все то, что находится за пределами сознания, было отдано физиологам. Победу одержала русская физиологическая школа Сеченова — Павлова.
Сторонники теории «мозг — орган психики» «по умолчанию» исходили из того, что рано или поздно будут обнаружены конкретные физиологические механизмы, благодаря которым станет понятен способ презентации явлений сознанию человека. Долгое время исследователи самых разных направлений пытались найти мозговые механизмы, управляющие психическими процессами. Существенную роль в обосновании этого подхода сыграла теория условных рефлексов И. П. Павлова (хотя, следует признать, без согласия автора), а в дальнейшем — нейропсихологи, одним из лидеров которых являлся коллега Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, один из соавторов культурно-исторической теории А. Р. Лурия. Серьезное подкрепление теория обусловленности психических процессов работой мозга получила со стороны исследований канадского нейрофизиолога Уайлдера Пенфилда, показавшего возникновение психических явлений (воспоминаний) в ответ на раздражение тех или иных участков височной доли мозга. Однако сокрушительный удар по этим надеждам был нанесен работами К. Лэшли, а в дальнейшем К. Прибрама, пришедшего к выводу о том, что мозг работает, скорее по принципу голограммы: любой его участок является носителем всей информации, которая содержится в опыте человека, то есть для мозга характерно правило «часть равна целому» [Прибрам, 1975].
Психологическая мысль упорно продвигалась в направлении идеи о неуместности трактовки мозга как органа психики. Здесь, в этой части тела человека действительно сконцентрирована вся проблематика чувственного и рационального, с одной стороны, и чувственности и переживания, с другой. Но, как и в отношении других частей тела, мы должны сказать: мозг — необходимый, но не достаточный механизм (термин «механизм», на наш взгляд здесь вполне уместен), благодаря которому деятельность получает возможность взаимодействовать с миром. И мы очень далеки от понимания тех процессов, которые позволяют осуществляться такому взаимодействию. Пока же можно сказать немногое. Мозг, в том числе и новейшие его структуры, всегда выступает для человека в двух его ипостасях. С одной стороны, — это часть системы, вступающей во взаимодействие с миром. В этом случае он предстает перед нами в формате рациональной конструкции. С другой стороны, мозг — нечто, само себя воспринимающее, то есть, как говорит Е. В. Субботский (2007), «часть сознания». В этой своей ипостаси мозг выступает как явление. Но эти две «ипостаси» мозга не вытекают одна из другой, поскольку являются продуктом мозга как объективного предмета, существующего независимо от человека.
Думается, подозрения, которые испытывали многие психологи (и в еще большей степени философы) к постулату первичности мозга по отношению к психике, сыграли не последнюю роль в становлении психологической теории деятельности. Несколько упрощая, можно сказать: теория деятельности на место постулата о первичности мозга (нервной системы в целом) поставила принцип первичности деятельности.
Многократно была артикулирована позиция, в соответствии с которой поведение как предмет психологического исследования, приводит к физиологическому редукционизму, к элиминированию психологической составляющей. Но, не желая отказаться от принципа наблюдаемости предмета исследования, советская психология предприняла попытку расширить содержание понятия «поведение» до такой степени, чтобы оно стало выражать специфически человеческое содержание. Противостояние этим попыткам стало проявляться уже на стадии оформления психологической теории деятельности, когда А. Н. Леонтьев предпочел отказаться от поведенческого критерия разведения различных этапов формирования психики. Такой критерий, например, предлагал К. Бюлер, выделявший инстинктивное поведение, дрессуру и интеллект как основные ступени развития психики.
Культурно-историческая психология противопоставила бихевиоризму свой подход: предметом психологии не может быть позитивистски трактуемое поведение. Взаимодействие человека с миром включает в себя не только так называемые объективные составляющие, но и то, что неподвластно объективному исследованию — внутренний мир человека. Разумеется, для понятия, содержание которого расширилось в столь значительной степени, требуется новое обозначение. Поэтому собственно человеческое поведение стало обозначаться понятием «деятельность», понимаемым как форма существования человека, форма движения реальности, двумя основными атрибутами которой являются: а) социальность и б) саморазвитие. Однако такая интерпретация деятельности принимается далеко не всеми исследователями. Понятие «деятельность», широко употребляемое в контексте психологических работ, до сих пор остается расплывчатым и неопределенным.
Если исходить из основных положений диалектико-материалистической философии, то фундаментальное свойство, основную функцию психологической системы мы должны искать во взаимодействии человека с окружающим его миром. Однако конкретные интерпретации этой функции не однозначны. Принцип отражения, долгое время превалировавший в отечественной психологии, часто интерпретировался таким образом, что деятельность человека является снимком, слепком объективной реальности.
С точки зрения культурно-исторической парадигмы взаимодействие, наоборот, является активным процессом, в ходе которого происходит не только воздействие на человека со стороны окружающего мира, но и обратные воздействия человека. Субъект находится в постоянном взаимодействии с окружающим его миром, с объективной реальностью. Каждое явление, каждый объект, каждая вещь — если они в какой-то степени имеют значение для субъекта — требуют его реакции. Такие значимые объекты окружают человека с момента его рождения и до наступления смерти. Субъект постоянно реагирует, и реагирование является формой существования человека. Такова действительность, данная нашим органам чувств, и от этой действительности (а значит, и необходимости ее интерпретации) не может уйти ни один исследователь.
Разумеется, реагирование отнюдь не сводится к поведенческим реакциям и моторным актам. Реагирование может быть коммуникативным, познавательным, эмоциональным. Именно поэтому многие психологи сегодня согласятся со следующим высказыванием: «Под "деятельностью" следует понимать способ существования человека и соответственно его самого правомерно определить как действующее существо… Отсюда следует, что деятельность охватывает и материально-практические, и интеллектуальные, духовные операции; и внешние, и внутренние процессы; деятельностью является работа мысли в такой же мере, как человеческое поведение» [Каган, 1974, с. 5]. Впрочем, в каждом конкретном случае невозможно отделить эти формы одну от другой — их можно выделить только посредством абстракции: «Нет такой практической деятельности человека, которая не включала бы в себя психических — познавательных и мотивационных — компонентов, так же как нет такой теоретической деятельности, создающей "идеальные" продукты, которая не включала бы в себя материальных действий (хотя бы движения пишущей руки при написании книги)» [Рубинштейн, 1958, с. 58].
На наш взгляд, многие из терминов, имеющих для нас ярко выраженное механистическое звучание, могут быть вполне успешно ассимилированы нами, если мы будем считать их не объяснительными принципами, но лишь терминами, описывающими те или иные феномены, требующие своего содержательного объяснения. Так обстоит дело с бихевиористскими понятиями. Мы привыкли к тому, что термин «реакция» и производные от него — «реагировать», «реагирование» — употребляются в бихевиористской трактовке, как единичный ответ организма на тот или иной стимул.
Неважно, как трактовали реакцию, рефлекс сами представители поведенческой психологии. Мы не станем принимать эти интерпретации. Но мы не можем и отрицать наличие таких явлений, как реакция. Бихевиористы пытались доказать, что вырванное из живого контекста явление, фантом, данный нам в наших органах чувств, составляет истинную сущность бытия. Сделать это они, конечно, не смогли. Но они показали нам важность данного явления — реакции. Действительно, все в мире есть реакция. Это утверждает вместе с бихевиористами Выготский. Но так же, как основные законы бытия человека, состоящего из физических элементов, не являются законами физики, так и реакции не могут составить эти законы. На самом деле «реакция» — это всего лишь видовое обозначение изменений деятельности в процессе взаимодействия субъекта с окружающим миром. Реакция, конечно, может быть вычленена в деятельности человека как абстрагированный от деятельности ее элемент, но к самой деятельности она относится так же, как движение электронов или работа нервной клетки. Все это есть в деятельности. Но это — не деятельность.
Для А. Н. Леонтьева, начиная уже с 1940-х годов, деятельность прежде всего является формой взаимодействия с миром. И само это взаимодействие не выводится из чего-то другого — черт, мотивов, диспозиций, — наоборот, из него выводятся структуры психики, сознания и личности. И врожденное, и приобретенное оказываются только сырьем, глиной, инструментом; ни «внешнее», ни «внутреннее» не определяют деятельность; они «равноудалены» от личности, которая не сводится ни к тому, ни к другому. «"Центр личности", который мы называем "я"… лежит не в индивиде, не за поверхностью его кожи, а в его бытии» [Леонтьев, 2004, с. 208–209].
В одной из последних своих опубликованных работ А. Н. Леонтьев следующим образом формулирует общее представление о деятельности человека: «Бытие, жизнь каждого человека складывается из совокупности или, точнее, из системы, иерархии сменяющих друг друга деятельностей. Именно в деятельности и происходит переход или "перевод" отражаемого в субъективный образ, в идеальное; вместе с тем в деятельности совершается также переход идеального в ее объективные результаты, в ее продукты, в материальное. Взятая с этой стороны деятельность представляет собой процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между противоположными полюсами субъект-объект» [Леонтьев, 2004, с. 257]. Очевидно, что это определение представляет собой неоспоримое, но — самое общее утверждение, которое может иметь самое разное наполнение в зависимости от общей методологической установки того или иного исследователя. Впрочем, Леонтьев именно так и оценивает это свое определение: «Высказанные мною положения о деятельности, — говорит он тут же, — являются весьма общими, можно сказать, абстрактными. Однако за ними стоит огромное богатство конкретного, открывающееся перед науками о человеке и обществе» [Там же]. Наша задача и состоит в том, чтобы выявить это конкретное — то, что стоит за определениями абстракций теории деятельности.
Не ошибемся, если назовем самой известной «частью» теории деятельности А. Н. Леонтьева его известную «трехчленку»: «деятельность — действие — операция». Эта «часть» — подчеркнем: совсем не вся теория — настолько популярна среди психологов самой разной квалификации, что зачастую выдается (а многими и принимается) за главное достижение автора теории. Мы не будем теперь подробно останавливаться на ограниченности такого структурного подхода к теоретическим конструктам, тем более что у автора данного структурного построения имеются развернутые изложения, посвященные генетическим и функциональным аспектам деятельности. Что же касается структурного анализа, то его главной целью является выявление тех элементов деятельности, которые формируются и преобразуются по мере ее развития, а также демонстрация их соотношения с целью дальнейшего уточнения функциональных и генетических характеристик. При этом никогда нельзя забывать, что подобная структурная интерпретация процесса относится по существу к метафизическому способу познания, который, «хотя и является правомерным и даже необходимым в известных областях, более или менее обширных, смотря по характеру предмета, рано или поздно достигает каждый раз того предела, за которым он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием — их возникновения и уничтожения, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса» [Энгельс, 1978, с. 22].
Если выйти за пределы структурного анализа деятельности, то прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что А. Н. Леонтьев считал деятельность включающей в себя как внешние, так и собственно психические аспекты взаимодействия человека с окружающим его миром. В связи с этим возникает вопрос: не превращается ли психология, то есть наука о психике, в праксиологию, то есть науку о деятельности, оторванную от психической составляющей? Подобные опасения снимает определение, данное А. Н. Леонтьевым предмету психологии. Деятельность человека, разъясняет Леонтьев свою точку зрения, как и любое другое реальное явление, обладает бесконечным множеством аспектов, сторон, свойств, качеств. Разумеется, возможно познание общих закономерностей деятельности человека в контексте общей теории деятельности (праксиологии). Однако выявление таких закономерностей не может заменить собой законов функционирования деятельности в процессе вхождения субъекта в те или иные отношения с окружающим его миром. Поэтому могут существовать, как отдельные научные направления, проблемы педагогического воздействия на деятельность, патологического изменения деятельности, деятельности в системе производственных отношений и т. д. Следовательно, и психология имеет отношение к определенному аспекту человеческой деятельности. Причем каждый из возможных аспектов деятельности, изучаемых той или иной наукой, следует рассматривать не как «часть» деятельности, а как ее данное конкретное функциональное проявление. Отсюда становится понятной логика определения А. Н. Леонтьева, в котором он указывает ту функцию деятельности, которая входит в предмет психологии: «Деятельность входит в предмет психологии, — указывает Леонтьев, — но не особой своей "частью" или "элементом", а своей особой функцией. Это функция полагания субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности» [Леонтьев, 2004, с. 92].
Иными словами, психология занимается изучением особого аспекта деятельности, вычленяемого (абстрагируемого) исследователем из целостной системы отношений, в которые вступает человек. Данная интерпретация предполагает особое понимание термина «психическая деятельность», играющего важную роль в категориальном аппарате А. Н. Леонтьева. Для А. Н. Леонтьева психология — это наука о деятельности. Быть может, психология — наука о психической деятельности? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы будем интерпретировать определение «психический». Мы видим две возможности трактовки этого термина. Действительно, часто говорят о психической деятельности как о деятельности психики. Фактически рассмотрение психической деятельности как деятельности психики основано на признании за психикой (сознанием) субстанциональности. Однако в теории Леонтьева психическая деятельность рассматривается как деятельность человека, — то есть как форма существования (движения) материи, — получившая в процессе естественно-исторического развития новое качество, свойство: психологичность (осознанность, если употреблять более точный термин по отношению к деятельности человека).
Чтобы объяснить источники такой трактовки деятельности, мы должны обратиться к интерпретации понятия «труд» у К. Маркса. Здесь необходимо сделать существенное замечание, которое, на наш взгляд, поможет объяснить изломы философских извращений, которые были присущи советской идеологии. Хорошо известно, что советские руководители, считавшие (наверно, искренно) себя марксистами, постоянно подкрепляли свои положения ссылками на работы классиков: Маркса и Энгельса. Не менее известно, что институт такого цитирования стал складываться еще в конце XIX века и начал бурно расцветать после того, как в одной отдельно взятой стране стали строить социализм. Известно также, что цитирование классиков превратилось из вполне законного средства построения научных текстов в средство бетонирования устоев советского общества. Но не так хорошо известно, что «кирпичи» для построения советской стены брались не те. И дело здесь не только в том, что в подавляющем своем большинстве советские марксисты в области науки для того, чтобы претворить в жизнь свои цели, вырывали из контекста отдельные фразы и без разбора помещали их в создаваемые тексты. Немногие, как, например, Л. С. Выготский, готовы были искать в работах Маркса метод — для этого необходим был не только революционный порыв, но и должный уровень образования и определенная склонность к целесообразному труду, чем могли похвастаться немногие из первых строителей коммунизма, пришедшие на смену старым «буржуазным» профессорам. Дело еще и в том — и это крайне важно, — что сам контекст, из которого выдергивались высказывания классиков, был не совсем тот. В этом контексте не хватало существенной части, которая под названием «Экономико-философские рукописи 1844 г.» (так назвали извлеченную из архивов рукопись К. Маркса) была впервые опубликована лишь в 1932 году, то есть — подчеркнем — когда в СССР «социализм» был практически построен из того, что было.
Вновь появившийся текст К. Маркса, который «по определению» должен был сразу канонизироваться, во многом противоречил идеологии, победившей в стране. Однако, он — этот текст — удивительным образом подкреплял ту линию поисков, которая сформировалась в культурно-исторической психологии. И именно этот текст Маркса — в первую очередь изложенное в нем понимание категорий «труд» и «деятельность» — легли в основу леонтьевской теории.
Прежде марксизм воспринимали как экономическую теорию, призванную освободить «человека труда» от «оков капитализма». Подобное восприятие сводилось к позитивистским трактовкам таких понятий, как «человек», «труд», «орудие» и т. д. Мало кто из дотошных исследователей вдавался в философские размышления по поводу указанных концептов. Философствования (часто, чтобы усилить драматизм, говорили: «спекулятивные философствования») в данной ситуации были на самом деле крайне опасны — они придавали самому Марксу оттенок старого «буржуазного профессора». Многие из советских философов-марксистов, пытавшиеся познать смысл построений Маркса в глубинах его философии, жестоко поплатились за это. Неожиданно всплывшие рукописи продемонстрировали, что в основе экономической теории К. Маркса лежит глубокое философское осмысление человека в его взаимодействии с миром.
Г. Маркузе — один из представителей так называемой Франкфуртской школы, развивавшей марксистские идеи в первой половине XX века (развивался марксизм во Франкфуртской школе без оглядки на советских «марксистов», за что ее представители и были подвергнуты анафеме в СССР), одним из первых проанализировал найденные рукописи К. Маркса. Маркузе приводит следующие формулировки Маркса: «труд есть для-себя-становление человека в рамках отчуждения, или в качестве отчужденного человека», это «акт самопорождения и самоопредмечивания», «жизнедеятельность, сама производственная жизнь», — и приходит к выводу: труд у Маркса есть «"акт самопорождения" человека, т. е. деятельность, посредством которой человек действительно становится тем, что он есть по своей природе как человек, и притом таким образом, что это становление и бытие суть для него» [Маркузе, 2011, с. 165], труд есть «специфически человеческая "жизнедеятельность"» [Там же, с. 168].
В продолжение этой, действительно марксистской трактовки в психологии единый механизм идентификации-отчуждения стал рассматриваться как один из аспектов интериоризции культурных ценностей в ходе развития личности [Абраменкова, 1990], а в теории А. Н. Леонтьева деятельность выступает как интегральное целостное образование, как процесс выявления существенных связей и отношений объективной реальности, как бесконечное абстрагирование, в результате которого создаются внутренние механизмы, оптимально удовлетворяющие наиболее широкому набору субъект-объектного взаимодействия. Леонтьев в качестве главного методологического направления своей теории видит противопоставление картезианскому разграничению мира и сознания человека свою точку зрения: миру противостоит не сознание, а деятельность человека. В своей книге «Деятельность. Сознание. Личность» А. Н. Леонтьев пишет: «Главное различение, лежавшее в основе классической картезианско-локковской психологии, — различение, с одной стороны, внешнего мира, мира протяжения, к которому относится и внешняя, телесная деятельность, а с другой — мира внутренних явлений и процессов сознания, — должно уступить свое место другому различению: с одной стороны — предметной реальности и ее идеализированных, превращенных форм (verwandelte Formen), с другой стороны — деятельности субъекта, включающей в себя как внешние, так и внутренние процессы. А это означает, что рассечение деятельности на две части, или стороны, якобы принадлежащие к двум совершенно разным сферам, устраняется. Вместе с тем это ставит новую проблему — проблему исследования конкретного соотношения и связи между различными формами деятельности человека» [Леонтьев, 2004, с. 78–79].
Но мы не должны забывать, что А. Н. Леонтьев жил и работал в условиях идеологической системы Советского Союза. И марксизм, который использовал в своей теории Леонтьев, был препарирован этой идеологией. Именно поэтому он и в своих работах часто определяет деятельность вообще как деятельность практическую, то есть фактически повторяет картезианскую формулу, сводя деятельность человека к ее телесным проявлениям. И в этих условиях он задался целью доказать единство мира внутреннего, психологического и мира внешнего, практического. Надо прямо сказать, что эти попытки были сопряжены с серьезными затруднениями. Леонтьев жаловался на то, что вся его теория свелась к так называемой «трехчленке»: деятельность (мотив) — действие (цель) — операция (условие). Эту формальную схему изучают, ее пытаются модифицировать. Как говорил П. Я. Гальперин, теорию деятельности «технологизировали». Вместо живого учения создали технологию по изучению деятельности: пытались найти такие «части» деятельности, которые в сумме давали саму деятельность.
Нам теория деятельности представляется принципиально иной. Теория А. Н. Леонтьева по своему внутреннему (часто не эксплицированному) содержанию направлена на конкретизацию принципа единства субъективного и объективного, сознания и предметной деятельности человека. Где-то за пределами возможностей нашей чувственной сферы существует та «часть» реальности, которую мы называем деятельностью. Деятельность — это осмысленное состояние человека, формирующее вектор нашей жизни, то есть вектор нашего взаимодействия с миром. В этом нашем глубинном состоянии есть какое-то центральное образование. Это образование, которое мы называем деятельностью, постоянно пытается что-то передать другим. По-другому мы не можем существовать. Экстериоризованная информация возвращается обратно, ко мне, и формирует новый смысл. Наше сознание дает нам «внешние», поведенческие проявления деятельности и «внутренние», интроспективные ее проявления. Эти проявления деятельности преодолевают порог сознания и сигнализируют нам о существовании той реальности, которая не подвластна нашим органам чувств, но которая составляет главную форму нашего существования, является основной единицей жизнедеятельности человека, как говорил А. Н. Леонтьев.
Наша деятельность представляет собой бесконечное, постоянное, континуумообразное изменение состояний. Каждое из этих состояний можно рассматривать как смысловой организм. Если развернуть мозаику этих состояний во временной развертке мгновений, то мы получим рисунок, на котором будет представлен смысловой узор нашей психологической системы, или, если это проинтерпретировать в терминах А. Н. Леонтьева, смысловой узор деятельности.
Надо честно признать: сам А. Н. Леонтьев, предлагая свою интерпретацию главной категории и единицы анализа, которую он использовал при построении своей теории, дает повод сомневаться в правомерности предложенной нами трактовки. В самом начале своего труда «Деятельность. Сознание. Личность» он прямо указывает, что предметом его исследования является не деятельность, а именно предметная деятельность, то есть внешняя деятельность: «Я думаю, что главное в этой книге состоит в попытке психологически осмыслить категории, наиболее важные для построения целостной системы психологии как конкретной науки о порождении, функционировании и строении психического отражения реальности, которое опосредствует жизнь индивидов. Это — категория предметной деятельности, категория сознания человека и категория личности» [Леонтьев А. Н., 2004, с. 12]. Более того, здесь же Леонтьев утверждает, что практическая деятельность должна рассматриваться не как условие психического отражения, а именно «как процесс, несущий в себе те внутренние движущие противоречия, раздвоения и трансформации, которые порождают психику… Задача же психологического исследования заключается в том, чтобы, не ограничиваясь изучением явлением и процессов на поверхности сознания, проникнуть в его строение. Но для этого сознание нужно рассматривать не как созерцаемое субъектом поле, на котором проецируются его образы и понятия, а как особое внутреннее движение, порождаемое движением человеческой деятельности» [Там же, с. 13]. Но если мы только так будем понимать категорию «деятельность» в теории А. Н. Леонтьева, то никогда не выйдем за пределы замкнутого круга: поведение — сознание. Недаром П. Я. Гальперин подчеркивает, что предметность деятельности должна пониматься «в логическом смысле» [Гальперин, 1992, с. 5].
В теории А. Н. Леонтьева «деятельность» фактически обозначает форму существования человека, его естественное состояние (естественное в смысле его повседневности, обычности, а не из-за отсутствия социальной основы). При этом деятельность рассматривается как единство ее внутренних и внешних аспектов, то есть как целостное образование. Целостность деятельности означает, что любое ее структурирование возможно лишь в абстракции исследователя. Мы бы сказали, что деятельность можно рассматривать как некое квазипространство, в котором определенным образом размещены ее «элементы». Композиция этих единиц может быть исследована и исследуется посредством существующих психологических методик, например, проективных и психосемантических. В центре такого пространственно представленной единицы локализовано значение, в концентрированной форме несущее все признаки самой деятельности, оказываясь как бы центром многочисленных концентрических сфер. Но здесь — в этой абстракции — такое «отделение» разных «структурных элементов» деятельности также имеет свое функциональное значение. Именно поэтому в этом (и только в этом) смысле теряют свое значение споры о первичности то ли труда, то ли общения, то ли «внешней» деятельности, то ли — «внутренней». То же самое можно сказать и об известном делении деятельности на игровую, трудовую и учебную. Деятельность как реальность не может быть той или иной своей формой. Не может существовать учение без игрового интереса, как не может существовать игра без своей трудовой компоненты, как и труд без игры. Как пишет современный исследователь, «только такой труд, сопряженный с игрой в самом глубоком смысле этого слова, с игрой как праздником бытия, и является в полном смысле человеческим трудом» [Губин, 2003, с. 34].
Взаимодействуя с миром, мы тем самым создаем свою уникальную психологическую систему, свой индивидуальный внутренний мир, свою деятельность, и уж совсем не копию внешнего мира, как утверждал А. В. Брушлинский [Брушлинский, 1993]. Поскольку наше осознавание мира непременно опосредовано деятельностью, тем самым мы оказываемся в нашем предельно уникальном мире, в нашей собственной и неповторимой жизни.
К. А. Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский Философско-психолоrическая концепция С.Л.Рубинштейна М., 1989, С.208-219.
Проблема человека как субъекта в поздних трудах с. л. Рубинштейна
Для понимания всей rлубины рубинштейновскоrо решения проблемы субъекта на последнем этапе ero творчества, чрезвычайно важна первоначальная постановка этой проблемы, представленная в ero ранних трудах. В концепции Рубинштейна в известном смысле сосуществуют две парадиrмы. В «Бытии и сознании», поскольку речь идет в основном о природе психики, представлена уровневая иерархичсская концепция, которая диалектически разработана в плане воздействия высшеrо уровня на низший и преломления действия вышележащих закономерностей через закономерности нижележащеrо уровня и т. д. [132, с. 14]. Однако только новая работа «Человек и мир» обнаруживает, что в отношении понимания специфики бытия человека Рубинштейн придерживается друrой, высказанной в рукописях 20..х rодов парадиrмы. Принцип монизма означает для Рубинштейна не только учет всех параметров бытия человека, но и определенную их систему. Но соrласно ранним рукописям, с появлением человека как субъекта в бытии появляется не новый высший уровень, а центр ero орrанизации и перестройки. Поэтому, скажем, rносеолоrическое и практическое отношения субъекта к миру отвечают не некоторому уровневому принципу, а представляют векторы, разные направления, в которых осуществляются ero разномодальные и разнокачественные отношения с миром. Связь этих отношений не уровневая. Она осуществляется через субъекта как через свое основание. Одно отношение может включаться в состав друrоrо, как сам субъект включен в бытие. Само возникновение уровня человеческоrо бытия является возникновением центра ero преобразования, а потому и бытие выступает с появлением человека в новом качестве объекта для субъекта, мира для человека. Мир новое качество бытия преобразованное человеком бытие, преобразованное ero деятельностью, опирающейся на возможности ero познания и на возможности преобразования, определенные тем или иным типом общественных отношений. С возникновением человека бытие превращается в объект, одновременно остающийся независимым от познания в смысле своей объективности и становящийся зависимым от субъекта в смысле реальности ero практическоrо преобразования. Это самое rлубокое философское понимание субъекта сохраняет онтолоrичность ero определения, включая в онтолоrию специфику ero способа существования, состоящую в переделке и преобразованиибытия. Понятие «мир», используемое Рубинштейном, необычно в отечественной философской традиции. «Мир это совокупность вещей и людей, в которую включает ся то, что относится к человеку и к чему он относится в силу своей сущности, что может быть для Hero значимо, на что он направлен» [135, с. 295]. Качество природы, не соотнесенной с человеком, Рубинштейн обозначает понятием материи [134, с. 157]. Таким образом, Рубинштейн считает, что общее понятие бытия включает в себя общественное бытие людей, «мир» человеческих предметов, а катеrория материи определяет предшествующий этап ero развития в качестве природы. Катеrория субъекта определяется через совокупность отношений к миру, В число которых Рубинштейн вводит в качестве paB ноправных с познанием и действием созерцание и этическое отношение. Преодоление недостатков созерцательноrо материализма не отменяет, по мнению Рубинштейна, самой проблемы созерцательноrо отношения к действительности. В отличие от Гуссерля и Хайдеrrера, которые противопоставляют познание, созерцание деятельности на том основании, что познание не изменяет свой предмет, а непосредственно схватывает сущность, Рубинштейн, различая созерцание и деятельность, понимает созерцание как активное, а не пассивное феноменолоrическое отношение. Весь пафос «Бытия и сознания» направлен на доказательство активной преобразующей природы познавательной деятельности, понимание ее как воссоздания, восстановления объекта по за конам познавательной деятельности, а не непосредственноrо по стижения сущности. Изменяя природу по законам своей общественноисторической деятельности, человек изменяет ее не вопреки самим объективным законам природы. Чтобы учитывать эти законы в своей деятельности, человек должен их знать. По знание не создает и не изменяет сущности объекта. Но оно выявляет эту сущность в «чистом виде», поэтому оно не пассивное отношение, а активное раскрытие сущности, оно «заинтересовано» в раскрытии этой сущности. Как известно, созерцательным считается весь домарксовский материализм, который оказывается способным только объяснить мир, но не изменить ero. Рубинштейн подчеркивает, что, в отличие от прежнеrо домарксовскоrо понимания созерцательности как пассивности, бездеятельности по отношению к объекту, это отношение в марксизме рассматривается как в высшей степени «за интересованное», активное, идеально преобразующее отношение. Понятие «созерцание» Рубишнтейн употребляет как общее, объединяющее и познавательное, и этическое, и эстетическое отношение к бытию. Это понятие им также употребляется для выявления различия двух отношений практическоrо и идеальнoro человека к бытию. Это диалектическое соотношение объективности и «заинтересованности» познания наряду с действенным преобразованием природы не исчерпывает, соrласно Рубинштейну, всех модальностей отношения человека к природе и бытию в целом. Вводя катеrорию созерцания, и преодолевая ее оrраниченное историкофилософское понимание, Рубинштейн раскрывает ее и через отношение человека к друrому человеку, и через отношение человека к природе. Эти отношения представляют неотъемлемые характеристики существования человека. Рубинштейн раскрывает всю конкретность, все боrатство способа существования человека непосредственные связи человека с природой, переживание себя как природноrо существа в своей нерасторжимой связи с природой. Все это представляет собой не натурализм или антрополоrизм, а онтолоrический источник rлубочайшеrо пласта душевной жизни человека и ero психической жизни. Сложилось представление, что психика, а с ней и вся сфера переживаний человека являются лишь средством для обеспечения ero оптимальноrо функционирования в том или ином плане (для реrуляции деятельности, для ориентации в мире, для установления отношений с друrими людьми). В какой-то степени это действительно так. Однако современная эпоха поставила проблему бездуховности и «бездушевности», обнаружила утрачиваемую самоценность психической жизни как таковой.
Пласт психически душевной жизни, непосредственность, искренность, яркость чувств человека лежат в основе и по-своему питают и духовную жизнь человека. И эту сторону отношения человека к миру, представленную ero связями с друrими людьми, построением этических отношений с ними, подразумевал Рубинштейн под созерцанием. Уже в «Основах общей психолоrии», давая определение сознания, он включил в неro отражение и отношение. Двоякий смысл понятия отношения как объективной связи между теми или иными явлениями, с одной стороны, и как собственно отношения субъекта к объекту, через которое он и caмоопределяется и вообще выступает в качестве субъекта, с друrой, часто затеняет для исследователей этот второй важнейший план отношений. Человек должен суметь отнестись к миру и людям, т. е. построить, сформировать это отношение как свое отношение. Именно такое отношение является производным, а не автоматически данным и именно в этом проявляется активность духовноrо самоопределения субъекта, в свою очередь составляю щая активность ero созерцания.
Рубинштейн не соотносит cтporo лоrически созерцание как отношение субъекта к миру (отличное по своей модальности от деятельности) и этическое отношение как отношение к друrим субъектам. Не это является ero задачей. Восстановив в «правах» созерцание, дав философское обоснование сущности внутренней духовной и душевной жизни как неотъемлемой составляющей способа существования человека, отстояв ero тем самым от свeдeния к общественной функции, маске и в конечном итоrе средству, он берется за решение задачи создания новой этики как онтолоrии человеческой жизни. Раскрытие человека через совокупность ero отношений к миру это одна плоскость философской задачи. Определение субъекта через ero активные проявления и способы осуществления в этих отношениях вторая плоскость решаемой Рубинштейном задачи. Первая предполаrает исследование структуры бытия, включающеrо в себя человка, вторая определение ero способа существования в этом бытии, которое теперь выступает в качестве мира для субъекта. Способ существования это не только совокупность отношений, это одновременно процесс, в котором постоянно осуществляется воспроизводство субъекта и ero развитие.
Именно этот второй план анализа «прорастает» из идеи жизненнoro пути как специфическоrо процессуальноrо измерения и способа существования личности. Он развивается, далее, в концепцию психическоrо как процесса, суть которой в идее воспроизводства, а также специфическоrо детерминирования будущеrо настоящим.
Рубинштейновская концепция этики как онтолоrии человеческой жизни в самом своем истоке направлена против давних ero ппонентов марбуржцев, неокантианцев, сводивших содержание этики к нормативным абстракциям. Онтолоrизировать этику для Рубинштейна означает преодолеть отчуждение нравственности от человека, превращение нравственности во внешнюю ему совокупность правил, а caмoro человека в их исполнителя, «преодолеть отчуждение ценностей от человека» [135, с. 369]. Задача заключается в том, чтобы сделать caмoro человека субъектом этических решений, нравственных поступков и нравственнoro волеизъявления. «Обособление идеала от реальной жизни, бытия человека, должноrо от существующеrо есть онтолоrический дyaлизм в отношении человека ero бытия. Противопоставление влечения и долrа есть раскалывание надвое человеческоrо бытия. Надо восстановить непрерывность, монизм, включающий моральные ценности и идеалы в реальную диалектику жизни человека» [Там же.].
Но эта полемика опирается на фундаментальный историкофилософский анализ и идущеrо от Канта превращения этики в формальные законы и друrоrо подхода, идущеrо от стоиков и Спинозы, превращение этики в управление субъектом своими влечениями, провозrлашение этики как «rосподства разума над страстями» [Там же, с. 370]. Идея построения этических отношений с людьми как задача субъекта, принятие им этических решений такова лоrика реализации принципа субъектности Рубинштейном. .Как выше отмечалось, суть состоит не в том, что субъект, по определению, уже является этическим субъектом, а в том, что он должен реал изовать этический способ жизни. Отношение к друrому как субъекту это отнюдь не любое отношение к друrому человеку, вообще не любые отношения между людьми, которые могут носить и отчужденный характер. Отношение к друrому как отношение к нему в соответствии со всей полнотой ero человеческой сущности, признание за ним права на самоопределение и свободу и соответствующее этому поведение такова природа субъект субъектных отношений как этических.
С особой яркостью идея онтолоrизации этики выражена у Рубинштейна, коrда он выдвиrает тезис о таком отношении к друrому человеку, которое усиливает и проявляет человеческую сущность последнеrо. Именно это отношение, по мнению Рубинштейна, свойственно любви как совершенно особоrо рода этическому чувству, усиливающему существование и сущность друrоrо человека. Ни в одном варианте известных этических концепций, будь они построены на принципах жалости и сострадания к человеку или противоположных принципах ero переделки и формирования, нет подобной интерпретации активно roтическоrо отношения к друrому, как усиления ero человеческой сущности. Напротив, нужно сказать, что современная эпоха обнажила всю rуманистически неrативную и одновременно практически безрезультатную стратеrию воздействия на человека для ero переделки.
Уже начиная с «Бытия и сознания», Рубинштейн всячески подчеркивает роль внутренних условий в стратеrии воспитания человека: и не только в смысле Toro, что внешние воздействия попросту будут «пропуuцены» через эти внутренние условия, но и в смысле тoro, что самую воспитательно-педаrоrическую или любую друrую стратеrию отношения к человеку нужно строить, адресуясь к этому внутреннему, находя в нем отклик, понимание и приятие.
Понимая, что такое отношение к человеку, адресованное к ero внутренней сущности, одновременно может сталкиваться с разными и идеальными, но потенциальными ее сторонами, и неrативными, но наличными, Рубинштейн rлубоко диалектически описывает возможное в связи с этим противоречие в отношениях людей. Он пишет, что отнестись к друrому как субъекту значит (иноrда) помочь ему преодолеть неrативное в нем с позиций Toro позитивноrо, что потенциально есть в каждом человеке. Но при этом нужно обладать rотовностью построить свое этическое отношение к друrому вопреки ero неrативному отношению к себе. Такое реальное разнообразие отношений, подчас противоречивых, образующих некоторую этическую «дyэль» между людьми, раскрывает Рубинштейн, исследуя путь к построению подлинно этических отношений. Активно-этическое отношение к друrому, но не навязанное ему силой, а учитывающее ero внутреннюю сущность, направленное на то, что бы помочь человеку устоять и справиться с теми жизненными и внутренними трудностями, которые еще не удалось устранить в борьбе за достойную жизнь, такова rлубоко диалектическая позиция Рубинштейна в разработке проблем этики у человека как ее субъекта. В этой диалектике подлинно марксистский активный rуманизм ero этической и мировоззренческой позиции.
* * *
Понятие субъекта, будучи обоrащенным, насыщенным определением ero различных отношений, имеет также множество разных значений. Ему присуща и конкретность, так как личная жизнь, индивидуальный уровень жизни субъекта порождает множество реальных ситуаций и противоречий, которые субъект и призван решать. Ему понятию субъекта присущ и дифференциальный смысл, раскрывающий реальные различия людей в меру их становления субъектами, в меру тoro, насколько их отношения стали человечны, подлинно этичны. Наконец, субъект совокупность познавательных, деятельнопрактических, созерцательноэтических отношений к миру.
В понятии субъекта, перерастающем таким образом в caмую rлубокую философскую катеrорию, находит свое концептированное выражение и вся философскопсихолоrическая кон цепция Рубинштейна во всем боrатстве разных исторически последовательных этапов ее разработки. Субъекту присуща и та деятельность, активность, с определения решающей роли которой Рубинштейн начал свой путь в психолоrии. Ему присущаи та внутренняя самоценность, избирательность, индивидуальность и целостность, которую Рубинштейн раскрыл через принцип детерминизма применительно к анализу предмета психолоrии. Ему присуще и развитие как особое качество ero способа существования, состоящее в способности становиться субъектом, в процессе этоrо становления, в достижении высшеrо ypовня субъективности. Наконец именно через нero как особое кaчество бытия человека раскрывается сам способ ero бытия, coстоящий отнюдь не в стихийности жизненноrо процесса, а в ero построении в соответствии с социальными, этическими общечеловеческими ценностями.
Философская проблема человека в концепции С.Л.Рубинштейна.
Задача поисков места психики в мире с целью определения предмета психолоrии снова приводит Рубинштейна к философскому осмыслению онтолоrической структуры бытия. Проблема нахождения связи rносеолоrической и онтолоrической характеристик психики выступает как задача нахождения более широко онтолоrическоrо основания психики, чем, скажем, ero онтолоrизация путем раскрытия ero физиолоrических, природных основ. Задача нахождения связи характеристик психическоrо решается не только методолоrическим путем путем нахождения единоrо связывающеrо их принципа, в качестве котoporo Рубинштейн выдвиrает принцип детерминизма. Он ставит задачу исследования онтолоrической структуры бытия первоначально с целью найти в нем место rносеолоrическоrо отношения. Опираясь на известное положение В.И.Ленина о неправомерности абсолютизации противоположности бытия и сознания за пределами оснoвнoro rносеолоrическоrо отношения [3, т. 14, с. 233], Рубинштейн обращается к выявлению их онтолоrической связи на основе друrоrо положения, о том, что в основе познавательноrо отношения человека к бытию лежит ero практическое, действенное отношение [3, т. 38, с. 203].
Но если практика является лежащим в основе познания более фундаментальным основанием (служащим, соrласно Ленину, и критерием истинности и основой лоrических форм познания и т. д. [3, т. 32, с. 72], то, следовательно, само rносеолоrическое отношение оказывается отношением, находящимся внутри друrоro, более широкоrо онтолоrическоrо как действенно практичеcкoro отношения. Такой поворот в постановке rносеолоrической проблемы и приводит Рубинштейна к выявлению онтолоrическоrо основания уже не только rносеолоrическоrо, но и caмoro практическоrо отношения к миру, а именно к обнаружению субъекта этих отношений человека. Познавательное отношение человека к миру, таким образом, производное от реальноrо бытия человека и осуществляется в процессе ero практическоrо взаимодействия с бытием. Практика, в свою очередь, соrласно марксистскому учению об обществе, не некая абстракция деятельности вообще, но практическая деятельность людей, находящихся в определенных конкретноисторически меняющихся отношениях друr к дpyry. Таким образом, вопрос о связи rносеолоrическоrо и практическoro отношений решается не путем простоrо включения познания в практическое отношение, но одновременно путем конкретизации понятия деятельности как отношения к бытию людей, находящихся, в свою очередь, в общественных отношениях друr к друrу. Таким образом, именно это последнее, в принципе тоrда общеизвестное положение марксизма об общественных отношениях позволило Рубинштейну, вопервых, перекинуть мост между cyществовавшими до сих пор достаточно обособленно друr от друrа областями философскоrо знания rносеолоrией и историческим материализмом. Bо-вторых, и это rлавное, указать на то онтолоrическое основание, которое, в свою очередь, является более широким основанием связи уже всех трех отношений rносеолоrичеcкoro, практическоrо и общественноrо отношения людей друr к друrу (названноrо Рубинштейном отношением к друrому человеку) Toro субъекта, которому принадлежат эти отношения.
Интеrрируя основные направления марксистской философии, Рубинштейн связывает теорию познания, марксистское учение о практике и учение об обществе как общественных отношениях людей через единое основание через субъекта всех трех отношений человека. Это решение оказывается, с одной стороны, направленным против проявившейся тенденции в советской философии абстрактноrо рассмотрения rносеолоrическоrо отношения как таковoro, и тем более против сведения практики к абстракции деятельности. Последняя операция, опирающаяся, казалось бы, на позитивное стремление подчеркнуть активны характер по знания, затем вела к отождествлению познания с деятельностью, нивелируя общественно"иторическую специфику практики. Опасность, однако, заключалась не только в отождествлении качественно различных отношений к миру, не только в их поrлощении абстракцией деятельности, но блаrодаря способу построения этой абстракции к исключению из нее и общественных отношений людей друr к друrу, составляющих сердцевину конкретноисторических форм практики. А тем самым деятельность элиминировала структуры и типы конкретно"исторических субъектов, выражением практическоrо отношения к природе которых она фактически является. Иными словами, деятельность, отождествляясь с познанием (или пусть даже в какой-то мере различаясь от нero), элиминировала, поrлотила cвoero реальноrо субъекта общество, человека как совокупность общественных отношений. Эта философская тенденция, которая решала доступным ей способом и определенные позитивные задачи, например расширить задачу фундирования теории отражения только естественно научным способом через павловскую рефлекторную теорию, т. е. связь механизмов отражения с мозrом, выйдя на связь отражения с деятельностью как более широким и историческим основанием, не моrла дать aprументов против критики марксизма, связанной с проблемой человека.
В связи с нараставшей популярностью экзистенциализма и философской антрополоrии, которые даже в психолоrии получили свою репрезентацию в лице rуманистической психолоrии, проблема человека в 50..х rодах стала центральной для двух противоположных тенденций, в равной мере направленных против марксизма. С одной стороны, это критика марксизма, обвинение в уходе от проблемы человека, в отказе якобы от ее философской разработки: тем самым марксизм обвинялся в антиrуманизме.
С друrой стороны, четко обнаружилась тенденция ревизии марксизма, т. е. попытка приписать раннему Марксу суrубо абстрактно-антрополоrическую постановку проблемы человека, спекулируя на противопоставлении ранних и поздних трудов Мapкca. Рубинштейн выступает против обоих этих направлений антимарксизма в статье «О философских основах психолоrии. Ранние рукописи К.Мapкca и проблемы психолоrии», вошедшей в книrу «Принципы и пути развития психолоrии». На первой же странице статьи перечислены и критики и «защитники» марксизма, в которых Рубинштейн видит своих оппонентов, стремящихся путем антрополоrизации марксизма расколоть надвое то целостное учение. Это К. Беккер, А. Корню, Ж. Ипполит и Ж. Кальвес, строящие свои спекуляции вокpyr марксизма именно на ранних произведениях К. Маркса.
Трудно переоценить смелость впервые предпринятоrо в советской философии обращения Рубинштейна к раннему Марксу в тот исторический период, в той доrматической философской атмосфере, коrда само употребление философских понятий и катеrорий кaнонизировалось. Следует отдать дань rражданскому мужеству aвтора этой статьи, приступившему к решению задачи защиты мapксизма с позиций ero более уrлубленноrо понимания и более вcecтopoннero раскрытия в условиях, в принципе исключавших философское мышление о марксистских принципах, в условиях, допускавших только лозунrовое употребление марксистских тезисов и цитат. Если вскоре вслед за этим обстановка в 60x rодах коренным образом изменилась, то в середине 50x rодов, коrда писалась эта статья, общий стиль философскоrо мышления был именно каноническим.
Раскрывая в первой части статьи методолоrическое значение Марксовых положений для психолоrии, во второй части Рубинштейн приступает к решению той фундаментальной задачи восстановления прав человека в марксизме, обоснование которой он завершает в книrе «Человек и мир». Он дает не просто утверждение, а философски развернутое доказательство тoro, что в «Экономическофилософских рукописях 1844 r.» К. Маркс выступает против rеrелевскоrо отождествления человека с ero сознанием, против идеалистической подмены сознанием человека. Рубинштейн раскрывает Марксов способ критики rеrелевской трактовки отчуждения [134, с. 55]. Одновременно Рубинштейн возражает против тoro, что у Маркса, соrласно утверждению ero критиков, проблема отчуждения имеет только экономический аспект (блаrодаря чему они и отрывают «философский» этап paннero Мapкca от «экономическоrо» этапа ero поздних трудов). Рубинштейн рассматривает явление отчуждения как определенный «исторически обусловленный способ cyществования человека» [135, с. 57] , т. е. как проблему не узкоэкономическую, а философскую. Именно через вбирание в эту философскую проблему человека всей полноты ее историческоrо содержания, представленноrо и в поздних и в ранних трудах К. Маркса, Рубинштейну удается противопоставить абстрактному антрополоrизму ее конкретноисторическую трактовку. Катеrориальный аппарат марксистской философии охватывает ядро проблем, составляющих общественно"историческое, а не антрополоrическое объяснение природы человека. Одновременно тем же ходом мысли Рубинштейн восстанавливает катеrорию человека во всей rлубине и полноте ero марксистскоrо понимания. Человек оказывается системообразующим «фактором» (выражаясь совpeменными терминами) в системе отношений (познавательноrо, практическоrо и др.). Только тоrда и становится понятным, что rносеолоrическое отношение (как и все друrие) существует не между мозrом и миром, а между человеком как субъектом и объектом как объектом ero познания и практики. Деятельность и познание, в известной мере занявшие место cвoero субъекта, рассматриваются Рубинштейном как познание и деятельность субъекта, как ero отношение с миром.
Основная линия критики направлена против идеалистическоrо решения оснoвнoro вопроса философии, против абсолютизацииrносеолоrическоrо отношения. Рубинштейн показывает, как эта абсолютизация приводит сначала к замене реальноrо человека ero сознанием, а затем к поrлощению сознанием вcero бытия. rносеолоrизация приводит к деонтолоrизации и человеческоrо бытия, и бытия в целом.
Как это ни парадоксально, в каком..то пункте идеалистическая rносеолоrизация сходится с механицизмом, приводя к одинаковым последствиям. Идущее от Декарта сведение материи только к миру физической и механической природы приводит к отождествлению материи с вещностью и соответственно к исключению из нее человека. между тем признание марксистскоrо положения о развитии материи, все более высоких и сложных ero форм не позволяет исключить самый высокий уровень этоrо развития бытие человека. Человек включается в закономерный процесс развития материальноrо мира как высший уровень этоrо развития и в своем специфическом общественно-историческом способе cyществования. Так на основании преодоления механистическоrо понимания материи объединяются общественноисторическая концепция и диалектикоматериалистическое учение о природе, развитии материальноrо мира.
Познавательное отношение человека к миру является, таким образом, производным от реальноrо бытия человека и осуществляется в процессе ero практическоrо взаимодействия с бытием и друrими людьми. Поэтому Рубинштейн возражает и против определения бытия, материи только через отношение к познанию, сознанию, а не самому человеку как практическому общественному существу. Исходным является не определение бытия в отношении к сознанию, познанию, а такое определение бытия, которое включает человека как практическое существо, в том числе и познающее бытие.
Отношение человека к бытию как познавательное отношение опосредствовано общественным отношением к друrому человеку. Тем самым устраняется размежевание «чистой» rносеолоrии и «чистой» социолоrии. Соrласно Рубинштейну, человек не есть некоторая «наличность» в бытии. Он вступает в специфические, качественно своеобразные взаимосвязи и взамоотношения с бытием, их объективность вскрывается марксистской общественноисторической концепцией развития человека. Исторический материализм признает первичным, исходным существование человека как реальноrо практическоrо существа, а вторичным ero сознание. Философ ское исследование, опирающееся на это положение историческоrо материализма, предполаrает за соотношением бытия и сознания как абстракцией философскоrо исследования соотношение бытия и человека как реальноrо практическоrо существа. В этом смысле исходным является не отношение бытия и сознания, а отношение бытия и человека, обладающеrо сознанием, т. е. исходно практическое, материальное, действенное соотношение человека с бытием, а вторично познание, осознание человеком бытия. Это положение центральная идея Bcero труда Рубинштейна. С одной стороны, оно направлено против абсолютизации сознания, которая приводит к дезонтолоrизации человеческоrо бытия, к замене человека как реальноrо материальноrо практическоrо существа ero сознанием. С друrой оно направлено против превращения бытия только в производное от сознания, в то, что определяется только относительно к сознанию, только через сознание. Основная идея книrи «Человек и мир» об отношении человека к бытию как объективном отношении с особой отчетливостью обоснова на во второй части, посвященной выявлению специфики человека как субъекта. Эта идея опирается на общественно"историческую концепцию субъекта в марксизме (а не только на rносеолоrическое понятие субъекта). Субъект рассматривается со стороны ero практическоrо действенноrо чувственноrо соотношения с бытием.
Рубинштейн исследует объективные особенности человека в кaчестве субъекта. Особенности бытия человека выявляются посредством анализа объективноrо взаимодействия человека с миром и качественно своеобразных способов этоrо взаимодействия (практическоrо, познавательноrо и этическоrо отношений). Отсюда возникает необходимоть новой дифференциации rносеолоrичеcкoro и онтолоrическоrо отношений, необходимость оrраничения и определения места rносеолоrическоrо отношения. rносеолоrическое отношение одно из отношений человека к бытию, возникающее с появлением человека, а значит, только на определенном этапе развития caмoro бытия. Познавательное отношение человека к бытию производно от caмoro существования человека, исходным является соотношение человека и бытия в плане реальнoro, практическоrо взаимодействия человека с бытием. Это, в свою очередь, означает, что человек включен в бытие, а человеческое бытие представляет высший уровень развития бытия. По этому бытие не внешне противостоит сознанию, как полаrал Кант, познавательное отношение осуществляется внутри бытия, оно включено в общий процесс взаимодействия человека и бытия. Так онтолоrический анализ, вскрывающий существенные свойства caмoro бытия, а не ступени ero познания, рассматривающий человеческое бытие как высший уровень развития бытия, включающий человека в бытие, показывает, что rносеолоrическое отношение занимает свое определенное, оrраниченное место во взаимоотношении человека с бытием. Рубинштейн раскрывает монистический характер марксистской концепции, которая позволяет исследовать все абстракци, все качества человека, вычленяемые в различных системах отношений ero практическом и познавательном отношении к бытию, ero общественноисторическом отношении к друrому человеку, прослеживает эти качественно определенные отношения в их взаимосвязи.
Рубинштейн применяет тот же метод, который был им разработан и использован при исследовании природы психических явлений. Сущность ero в самом общем виде заключается в paссмотpeнии какоrо-либо явления в разных связях и отношениях, в каждом из которых оно предстает в новом качестве. Посредством этоrо метода Рубинштейн раскрыл мноrокачественную природу психических явлений, показал качественное своеобразие различных характеристик, которые психическое получает в разных связях и отношениях. В отношении к миру психическое выступает как отражение, в отношении к мозrу как высшая нервная деятельность и т. д. Этот метод опирается на известную ленинскую формулу: «Каждое понятие находится визвестном отношении, в известной связи со всеми остальными» [3, т. 29, с. 179]. Марксизм подчеркивает объективный характер взаимосвязей явлений действительности, в каждой из этих связей явление объективно выступает в новой качественной определенности. Эта качественная определенность не позволяет подставить на место одной характеристики, на место качества явления, находящеrося в одной системе связей, друrую xapaктеристику, друrое ero качество.
Этот метод исследования оказывается плодотворным в философском исследовании человека: Рубинштейн рассматривает человека в двух взаимосвязанных, но качественно различных отношениях отношении к бытию и отношении к друrому человеку. Отношение человека к человеку составляет общественную характеристику и познания и действия, опосредует отношение человека к бытию и вместе с тем выделяется как социальная область этики.
С.М.Морозов Экзистенциальный вектор деятельности. Т.2. М., 2013, с.290-316.
Психагогика М.М.Бахтина.
Концепция М. М. Бахтина, утверждавшего, что «диалогические отношения… это — почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение», и что дорога к объяснению души человека лежит через анализ диалогизма его сознания, привносит в систему антропологических размышлений серьезную и глубокую новизну. Этот тезис не вызывает сомнений у большинства современных исследователей творчества замечательного российского мыслителя. Сомнение вызывает другое: насколько философская система Бахтина соответствует методологическим основам современной психологии.
Преобладающие в современной психологии интерпретации взглядов М. М. Бахтина создают впечатление принципиального противостояния теории советского философа естественно-научной идеологии, абсолютной «гуманитарности» его философии. Так, Р.Веджериф [Wegerif, 2008] считает, что термин «диалог» Бахтина соответствует термину «событие» у Хайдеггера, «различие» у Деррида, «хиазм» у Мерло-Понти и на этом основании противопоставляет диалогизм Бахтина культурно-исторической теории Л.С.Выготского. Однако есть и такие авторы, исследования которых ставят под сомнение абсолютность гуманитарности философии Бахтина. Так, Т. А. Флоренская указывает на созвучие идеи Бахтина о вненаходимости высказываниям физиолога А. А. Ухтомского о «доминанте на Собеседнике» [Флоренская, 1991]. Американские исследователи творчества Бахтина К. Кларк и М. Холквист привносят в теорию Бахтина генетические мотивы, объясняя большой интерес Бахтина к биологии тем, что «бахтинская антитеза я/другой отражается в природном мире» [Кларк, Холквист, 2002]. Более того, М. Холквист считает, что теория Бахтина имеет очевидный параллелизм с теорией предадаптации [Холквист,2002]. На наш взгляд, эти сомнения находят свое подтверждение в процессе анализа отношения Бахтина к психологии.
Внимание отечественных психологов к философии М. М. Бахтина было привлечено публикацией одного из его текстов в хрестоматии, составленной сотрудниками факультета психологии МГУ (см.: [Психология личности, 1982]). Вслед за этим идею противопоставления гуманитарного и естественно-научного знания в теории М. М. Бахтина высказал Л. А. Радзиховский, поместивший диалогизм Бахтина в контекст традиционной схемы противостояния естественно-научной и гуманитарной науки [Радзиховский, 1985; 1987]. По мнению Радзиховского, позиция Бахтина состоит в том, что сознание неформализуемо и диалогично, поэтому оно принципиально отлично от предмета естествознания.
Одновременно выступил А. В. Петровский, изложивший позицию, в соответствии с которой философия М. М. Бахтина не может быть принята психологическим сообществом, поскольку по существу представляет собой попытку опровержения методологических основ научной психологии [Петровский, 1985]. Прежде всего, по мнению Петровского, это касается концепта «заочная правда», использование которого позволяет Бахтину противопоставить научной психологии свою теорию диалогизма.
Подобная интерпретация как самой психологии, так и отношения М. М. Бахтина к психологии не вызвала сомнений в психологическом сообществе. Задача, которую поставили перед собой психологи в 80-90-е годы, состояла в другом — как-то «вписать» диалогизм Бахтина в традиционные психологические схемы, не теряя при этом экзистенциально-психологическую направленность его философии. С одной стороны, этим занялись представители фундаментальной науки. Отметим здесь попытку Б. С. Братуся [Братусь, 1997; 1998] сохранить Бахтина для психологии путем расщепления предмета психологического исследования (Бахтин занимается личностью, а психология — человеком). С другой стороны, практические психологи, менее доброжелательно настроенные по отношению к научной психологии, остались на позиции, в соответствии с которой ««заочная правда» — правда, не обращенная к человеку диалогически, — умерщвляет его ложью, если касается его «святая святых», то есть «человека в человеке» [Флоренская, 1991]. Фактически подобные попытки ставят нас перед дилеммой: либо согласиться с теми, кто считает современную естественно-научную психологию единственным форматом познания психической реальности, либо признать правоту тех, кто отвергает любые попытки психологического познания в контексте естественно-научной парадигмы. Впрочем, и в том и в другом случае теория Бахтина признается чем-то принципиально «неестественно-научным». Думается, истина как всегда где-то «посередине». В связи с эти мы попытаемся рассмотреть один из аспектов темы «психология и естествознание»: соотношение философии М. М. Бахтина и некоторых методологических принципов современной естественно-научной парадигмы.
В качестве модели предмета своего исследования М. М. Бахтин выбирает творчество Ф. М. Достоевского, называя диалогизм Достоевского «формообразующим моментом» его произведений. Роман Достоевского диалогичен, — утверждает Бахтин. Каждая мысль его героя сопровождается «вечной оглядкой на другого человека». Достоевский противопоставляет монологизм механической «вещи» (а вещью может быть в определенном отношении и произведение искусства, например драматургическое произведение) и диалогизм того «что имеет смысл и значение»: «Где начинается сознание, там для Достоевского начинается и диалог», — пишет Бахтин.
У Бахтина тема диалогизма рассматривается на примере романов Достоевского (главным образом, в книге «Поэтика Достоевского»). Но это, конечно, не означает, что, кроме этих литературных произведений, диалогизм нигде не присутствует. Наоборот, «поэтика Достоевского» — только модель, при помощи которой Бахтин воссоздает особенности реальной жизни. Перефразируя Выготского, можно сказать: в поэтике Достоевского для Бахтина, как солнце в малой капле вод, проявляется «большой диалогизм» реального субъекта.
Как и его любимый автор в отношении своих романов, М. М. Бахтин убежден, что его теория не имеет отношения к психологии. Диалогические отношения присущи только человеку, его сознанию, которое нельзя созерцать, анализировать, определять как объект, как вещь. Но именно этим занимаются научные теории, основанные на принципах естествознания. Поэтому они не могут быть использованы для понимания человека. Отсюда — неприятие Бахтиным (вслед за Достоевским) научной психологии. Иными словами, психологию Бахтин видит только в ее «естественно-научной» ипостаси.
По мнению М. М. Бахтина, научная психология предписывает наблюдателю-исследователю такой взгляд на человека, в соответствии с которым он, этот человек, подчинен раз и навсегда предустановленным законам. Такая предустановленность, во-первых, предполагает, что данные закономерности проявляются в поведенческих характеристиках человека, а во-вторых, из такой предустановленности следует (и из этого вывода исходит в своих оценках поступков людей научная психология), что поступок есть непосредственное проявление внутреннего мира человека. Такова «психология». Она — эта психология — дает исследователю такую правду о человеке, которая базируется на исследовании личности, опосредованной поведением исследуемого. То есть такой предмет исследования изначально искажен нашим восприятием того, что мы таким предметом считаем. Это не сам предмет, а лишь иллюзия, преломленная сквозь призму рациональности. Такая правда о человеке не может быть настоящей. Это — «заочная» правда о человеке. Именно такую правду пытается получить классическое естествознание с его попытками расчленить предмет исследования, гносеологизировать его, превратить в чувственно данную вещь и построить в результате модель исследуемой реальности, как можно более точно эту реальность отображающую.
Бахтин утверждает прямо противоположное. Точность в науке нужна для овладения предметом, но личностью нельзя овладеть: она свободна. Суть личности невместима в рамки интеллекта. «Критерий здесь не точность познания, а глубина проникновения». Объективное исследование не может открыть истины о человеке. Оно напоминает судебное следствие и суд над личностью. Таков суд над Дмитрием Карамазовым в романе Ф. М. Достоевского. Как пишет об этом М. М. Бахтин, «все, кто судят Дмитрия, лишены подлинного диалогического подхода к нему, диалогического проникновения в незавершенное ядро его личности. Они ищут и видят в нем только фактическую, вещную определенность переживаний и поступков и подводят их под определенные уже понятия и схемы. Подлинный Дмитрий остается вне их суда (он сам себя будет судить)» [Бахтин, 2002, с. 36]. По мнению Бахтина, это очень точно выражает ситуацию в экспериментальной психологии и психодиагностике, которые подводят человека «под определенные уже понятия и схемы», проходя мимо его существа. Но подлинная жизнь личности совершается в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, «заочно». Правда о человеке в чужих устах, не обращенная к нему диалогически, то есть заочная правда, становится унижающей и умерщвляющей его ложью.
Высказанную М. М. Бахтиным мысль о границе, существующей между человеком и его научным осмыслением, о «внеположности» теоретической основы по отношению к той предметной области, к которой эта теория имеет отношение, можно на наш взгляд, соотнести с идеей, казалось бы, находящейся в иной теоретической плоскости — с идеей методологического плюрализма. В соответствии с этим принципом не должно быть ограничений на развитие тех или иных теоретических подходов. С этим нельзя не согласиться. Но нельзя не согласиться и с тем, что каждый автор обязан настойчиво строить систему своих взглядов на предмет исследования, тем самым в определенной степени отрицая системы других авторов. Автор, тем самым, не может быть «плюралистом» в том смысле, что его собственное видение предмета не может раздваиваться, а тем более — становиться множественным. В то же время не может не существовать теоретическая система, являющаяся средством выявления моментов, делающих возможным обсуждение авторских построений, выходящая за пределы множества таких построений, расположенная вне множества таких построений, внеположная им. Иными словами, должна быть метатеория, не столько объединяющая такое плюралистическое множество, сколько дающая возможность авторам понять друг друга, а значит — и самих себя. Иными словами, авторы вступают в диалог друг с другом не только в непосредственном взаимодействии, но и опосредованно, взаимодействуя с тем, что принято называть системой артефактов или культурой. Подобный теоретический конструкт, присутствующий и в теории Бахтина, выступает на первый план, когда мы обращаемся к категории «большой диалог».
Многие авторы указывают, что в теории М. М. Бахтина существуют различные содержательные наполнения термина «диалог». Если свести различные интерпретации диалогизма Бахтина к наиболее обобщенным характеристикам, то можно вслед за А. Ф. Копьевым сказать [Копьев, 1990]: здесь диалог рассматривается либо как общечеловеческая реальность, либо как конкретное событие общения: «Если в первом — универсальном своем значении — понятие диалога не может рассматриваться в терминах количественных, как нечто, чего может быть больше или меньше или что может вовсе отсутствовать, поскольку диалогичность здесь — неотъемлемое свойство человеческой природы, которое может лишь по-разному проявляться, то во втором своем значении диалог — как конкретное жизненное событие общения — может состояться или не состояться». Тем самым виды диалога — не просто отдельные феномены, существующие в абстракции. Настоящий диалог подразумевает существование системы отношений, в которые вступает сознание человека. Во-первых, это взаимодействие сознаний конкретных людей. По мнению Бахтина, все переживания и мысли человека, все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение, постоянно сопровождаются «оглядкой» на другого человека, поэтому общаться с ним можно только диалогически. Такое взаимодействие Бахтин называет микродиалогом.
Но это еще не все. В философии М. М. Бахтина существует еще понятие «большой диалог» — диалог «последнего целого». У Достоевского человек преодолевает свою «вещность» и становится «человеком в человеке», только войдя в чистую и незавершимую сферу идеи, то есть только став бескорыстным человеком идеи. Идея начинает жить, то есть формироваться, развиваться, находить и обновлять свое словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения с другими, чужими идеями. Идея интериндивидуальна и интерсубъективна, сфера ее бытия не индивидуальное сознание, а диалогическое общение между сознаниями. Идея — это живое событие, разыгрывающееся в точке диалогической встречи двух или нескольких сознаний. Идея в этом отношении подобна слову, с которым она диалектически едина. Как и слово, идея хочет быть услышанной, понятой и «отвеченной» другими голосами с других позиций. Как и слово, идея по природе диалогична, монолог же является лишь условной композиционной формой ее выражения. Идея, наполняя автора существенным смысловым избытком, превращает большой диалог романа в завершенный объектный диалог. Завершенность романа и незавершенность героя — таковы ключевые признаки диалогизма, по Бахтину. Как следствие этой противоречивости художественного произведения, герой «по определению» оказывается «незавершенным» и в этой своей незавершенности он не равен самому себе. Перенося эту схему из сферы литературоведения на реальную жизнь, Бахтин выдвигает концепт незавершенности человека. Правда, здесь возникает интересный вопрос об Авторе «большого диалога», но автор теории диалогизма не дает по этому поводу разъяснений, возможно, чтобы не возбуждать чрезвычайных подозрений со стороны советских марксистов в области науки.
Таким образом, как и во множестве других методологических построений, в философии М. М. Бахтина мы обнаруживаем триаду: микродиалог — универсальный диалог — большой диалог. Казалось бы, мы имеем стройную картину, в которой гармонично размещены формы диалогического существования человека, вступающего в большой диалог с культурой, затем попадающего в поле универсального диалога, где монологизм по определению невозможен, но одновременно существующего в формате взаимодействия (микродиалога) с конкретным собеседником — в этом последнем случае диалогизма может и не быть. Более того, некоторые современные авторы подчеркивают положительную роль монологизма, как например, М.Томазелло [Tomasello, 1999] и Г.Уэлс [Wells, 2007], утверждающие, что монолог производит нечто наподобие «эффекта храповика» («the ratchet effect»): когда происходит передача, зубчик цепляет очередную ступеньку развития конкретного человека, получившего знания от общества.
Казалось бы, перед нами — формально строгая система различных форм диалога. Но в этом случае мы не можем не отметить фенотипичность нарисованной картины. Действительно, взятый в разных контекстах, субъект выступает то во взаимодействием с системой артефактов, то в диалоге с себе подобными, то как монологическое существо. На самом же деле, диалог, как и все другое, имеет свою историю. Ребенок, изначально вступающий в диалог с культурой, с окружающими его людьми, не может не зафиксировать особенности такого взаимодействия в своем бытии, в своей деятельности. Тем самым, как мы пытались показать на всем протяжении наших рассуждений, любой диалог — и тот, которому приписывается приставка «микро-», — не может исчезнуть, уступив свое место монологу. Диалог может не присутствовать в сознании, но его присутствие в феноменальном поле несомненно. Именно так мы понимаем диалогизм М. М. Бахтина. И такой диалогизм Бахтина рассматриваем далее.
Впрочем, сам М. М. Бахтин, как известно, будучи далек от рассуждений на тему онтогенеза диалога, тем не менее генетической проблемой занимался. Эта тема нашла свое проявление в концепте «карнавализация», без упоминания которого непроясненной останется одна из важнейших линий размышлений философа — идея незавершенности человека. Эта идея имеет принципиальное значение для философии диалогизма. Для того чтобы стало возможно развитие личности, необходимо обнаружить смысл этой незавершенности. То есть для того, чтобы эту незавершенность «компенсировать», мы и должны подойти к человеку диалогически, — подчеркивает Т. А. Флоренская [Флоренская, 1991]. Например, Тихон подходит к Ставрогину как раз глубоко диалогически и понимает незавершенность его внутренней личности.
Непредрешимость, непредсказуемость относятся к существу человеческого бытия. Они отражают определяющую черту личности, которую Бахтин называл несовпадением с самим собой, незавершенностью человека. Поскольку же такая незавершенность — действительно принципиально важная, существенная характеристика человека, то и «судить» человека надо как «незавершенное целое». Более того, как целое незавершаемое. Отсюда вывод: оценка человека может производиться только «здесь и сейчас». Ведь совсем скоро человек окажется в совсем ином состоянии и оценка наша окажется неверной. Это касается как индивидуально-личностных, так и исторических оценок.
Но обратим внимание: человек, по М. М. Бахтину, не столько «незавершен», сколько «незавершим». Иными словами какая-либо завершенность человека, по мнению Бахтина, принципиально невозможна. Герои Достоевского остро чувствуют собственную незавершимость, то есть «свою способность как бы изнутри перерасти и сделать неправдой любое овнешняющее и завершающее их определение. Пока человек жив, он живет тем, что еще не завершен и еще не сказал своего последнего слова» [Бахтин, 2002, с. 34]. Если воспользоваться естественно-научной терминологией, можно сказать: своеобразные точки исторической бифуркации не позволяют предсказывать будущее в терминах классического детерминизма. Поэтому люди могут удивлять других и себя осуществлением выбора, который не смог бы предсказать ни психолог, ни социолог, ни биограф, ни посторонний наблюдатель, причем выбор осуществляется вне зависимости от того, какими теоретическими или фактическими знаниями они обладают. Отсюда следующая интерпретация: «Бахтин вообще не ценил исторические прогнозы за их склонность к монологической рационализации истории и предпочитал говорить о будущем в категориях "сюрпризности" и даже "чуда"» [Гоготишвили, 2002, с. 130]. Действительно, судим прошлые поступки, а личность давно уже другая — готовит нам «сюрпризы», которые мы не можем ожидать, поскольку знаем о ней только по прошедшим ее поступкам. Отсюда вывод: «внешнее» в человека никогда не может точно указать нам на действительное (а не выведенное нами логически из «внешнего») состояние личности.
Однако незавершенность, по М. М. Бахтину, — это естественное, но не нормальное состояние человека. Человек стремится к своей целостности (к центрированности, как сказали бы экзистенциалисты; к состоянию равновесия — возможно, сформулировал бы сторонник естественно-научного подхода). Только приобретя завершенность, человек получит ту оценку, которую, по его мнению, он заслуживает. «Заочная» же правда, как мы помним, убивает его своей ложью.
Возможно ли «излечение», то есть правда о человеке? На этот вопрос М. М. Бахтин дает определенно положительный ответ. При всей своей естественности, незавершенность может иметь разные источники своего существования. Диалог является тем средством, которое позволяет выявить такие источники, то есть установить причину «заболевания», а затем попытаться устранить ее. Но такая настоящая правда не может быть опосредована методами классического естествознания. Это — правда непосредственного мироощущения.
Исследователи творчества М. М. Бахтина Г. Морсон и К. Эмерсон, утверждают, что в основе его теоретических построений лежит реальность, которую можно обозначить как «нравственная мудрость» и здесь, по их мнению, Бахтин является последователем Л. Н. Толстого [Морсон, Эмерсон, 2002]. Непосредственный вывод из «нравственной мудрости» противопоставляется Бахтиным «теоретизированию», которое предполагает определенную протяженность во времени, не позволяя, таким образом, осуществить нравственный выбор, которого требуют обстоятельства «здесь и сейчас».
Не сомневаясь в возможности подобного взгляда, мы все же считаем его переполненным фенотипическими составляющими. Общий принцип диалогической теории М. М. Бахтина — принцип «здесь и сейчас» — действительно, предъявляет вполне определенные требования к интерпретации категории «Я» — одной из основных категорий экзистенциализма. Для Бахтина «Я» — всегда сейчас. Не может быть «Я» (т. е. субъект экзистенциального анализа) в прошлом. «Я» в прошлом — это «Он» (а может быть, «Оно» М. Бубера). «Я» в прошлом — объект, и как объект его, пожалуй, можно подвергнуть естественно-научному анализу. Но «Я» истинное такому анализу принципиально не подвластно, поскольку «Я» — единство «Я» и «не-Я». И все же прошлое присутствует в «Я» и тем самым задает параметр незавершенности.
Эта особенность философии М. М. Бахтина не вызывает интереса у исследователей его творчества, хотя в ее основе лежит один из наиболее популярных среди бахтиноведов феноменов. Привлечение этого феномена позволяет нам понять не только особенности становления диалога у Бахтина, но и генетический аспект рассмотрения им предмета исследования. Любой автор неизбежно сталкивается с проблемой возникновения и становления своего предмета. Часто авторы не эксплицируют эту линию анализа. Но у многих — и Бахтин не исключение — эта линия отчетливо прослеживается. Этот аспект у Бахтина представлен принципом карнавализации.
Карнавальность в теории М. М. Бахтина выступает как природное начало, так сказать, естественно присущее человеку и противостоящее гипертрофированной рационализации сознания. Бахтин подчеркивает, что уже первобытное сознание обладает этим качеством. Карнавальность — исконная форма мироощущения, противостоящая более позднему образованию, каковым является рациональное начало. В соответствии с этим принципом, существенной составляющей диалогичности является «карнавальность» — но не только как художественный прием, зародившийся в античной литературе и в снятом виде присутствующий в современных художественных текстах. Карнавальность у Бахтина — это генетическая составляющая, являющаяся носителем иррационального начала, которое, таким образом, становится достоянием деятельности человека, присутствует в ней в снятом виде. Это генетически исходные, «животные» формы взаимодействия с окружающим миром: смеховые, «низменные» — в том числе, эротические — составляющие, которые представляют собой, по Бахтину, обязательную компоненту диалога.
Все должно взаимоотражаться и взаимоосвещаться диалогически. Поэтому все разъединенное и далекое должно быть сведено в одну пространственную и временную «точку». Но для этого нужна карнавальная свобода, составляющая генетическую составляющую сознания человека. Карнавализация сделала возможным создание открытой структуры большого диалога, позволила перенести изначально существующее социальное взаимодействие людей в высшую сферу духа и интеллекта, которая всегда была по преимуществу сферой единого и единственного монологического сознания, единого и неделимого, в себе самом развивающегося духа. Карнавальность диалога тем самым противостоит рационализации, характерной для диалога, происходящего в формате речевого взаимодействия. Одновременно это означает, что диалог насыщен неформализуемыми бытийными составляющими, которые «по определению» противостоят формализованной завершенности сознания. Более того, поскольку люди не завершены, они могут удивлять других и себя осуществлением выбора, который не смог бы предсказать ни психолог, ни социолог, ни биограф, ни посторонний наблюдатель, причем выбор осуществляется вне зависимости от того, какими теоретическими или фактическими знаниями они обладают. Поскольку выбор этот показывает не только то, каковы мы сегодня, наше сознание и наши поступки не поддаются завершающему определению извне.
Со времен Г. Спенсера рациональный монологический интеллект считался высшей формой душевного развития, с помощью которого приспособление расширяется в пространстве и во времени, возрастает его специализация, точность и сложность. Субъект воспринимает мир, изменяет его, снова воспринимает, но уже после произведенных воздействий и т. д. Такая цепочка «восприятие — воздействие — восприятие» получила свое методологическое оформление в философии Декарта и превратилась в классическую методическую разработку в теории условного рефлекса И. П. Павлова. М. М. Бахтин считает, что на почве философского монологизма невозможно взаимодействие сознаний, а поэтому невозможен диалог.
В сущности, монологизм знает лишь один вид познавательного взаимодействия между сознаниями: научение знающим и обладающим истиной незнающего и ошибающегося, то есть взаимоотношение учителя и ученика, и, следовательно, только «педагогический» диалог. Диалогическое «научение», по Бахтину, «психагогично», если уместно тут употребить терминологию М. Фуко [Фуко, 2007, с. 441]: «Назовем, — пишет Фуко, — с вашего позволения, "педагогикой" передачу кому-то некоторой истины, с тем, чтобы он приобрел определенные навыки (aptitudes), умения (capacities), знания и т. п., которых не имел ранее и которыми он должен обладать к концу обучения. И если мы назовем "педагогическими" отношения, состоящие в том, что кто-то обучает кого-то ряду перечисленных навыков, то можно, я думаю, назвать "психагогикой" такую передачу истины, которая вовсе не нацелена на приобретение кем-то некоторых навыков и т. д., но смысл которой в том, чтобы изменить самый способ существования подопечного».
Возникает вопрос: в чем смысл психологической науки, если исходить из этой дихотомии: «педагогическое — психагогическое»? Должна ли «передача истины» иметь своей целью передачу кому-то знаний, умений и навыков, или такой целью стоить считать «изменение самого способа существования подопечного»? Если следовать логике М. М. Бахтина, именно подобное «изменение самого способа существования» является активным процессом, за которым стоит диалогический способ взаимодействия. Тогда вопрос можно переформулировать следующим образом: является ли объект такого воздействия чем-то механически воспринимающим воздействия Учителя, или это активный процесс освоения мира? Далее: если перейти теперь от образа взаимодействия ученика и учителя к образу взаимодействия исследователя и объекта исследования, то все тот же наш вопрос приобретает следующий вид: что представляет собой такой объект? Это претерпевающее существо или активный субъект, точно так же, как и наш «ученик» под воздействием исследователя меняющий «сам способ своего существования»? Здесь, на наш взгляд, — водораздел, отделяющий два подхода к естественно-научному исследованию и, соответственно, две формы естественно-научной методологии. Одна из них склонна к позитивистской интерпретации предмета исследования. Вторая — к интерпретации диалектической8.
Но такое «естествознание» принципиально отлично от того понимания естествознания, которое было привнесено в науку позитивизмом. Естественность, в каком бы виде она ни проявлялась, в своей основе имеет важный параметр, который должен присутствовать при определении исходного принципа той или иной теории. Это генетический аспект рассмотрения предмета исследования, имеющий множество разнообразных сторон и граней. Одна из таких граней — отношение к диалектическому принципу. Этот вопрос важен с разных точек зрения. Одна из наиболее существенных для нас — превалирование диалектического учения в советской науке, которая была построена таким образом, что любой исследователь должен был соотнести свой предмет с диалектической методологией (подразумевалось, что такое соотнесение должно иметь положительную окраску). Не явился исключением и М. М. Бахтин, хотя его оценку диалектики никак нельзя назвать позитивной. В одном из набросков Бахтин уподоблял диалектический процесс (как по Марксу, так и по Гегелю) мысли, «которая, как рыбка в аквариуме, наталкивается на дно и на стенки и не может плыть больше и глубже. Догматические мысли» [Бахтин, 1979, с. 365–366]. В одной из поздних записей контраст двух типов мышления характеризуется с особенной резкостью: «Диалог и диалектика. В диалоге снимаются голоса (раздел голосов), снимаются интонации (эмоционально-личностные), из живых слов и реплик вылущиваются понятия и суждения, все втискивается в одно абстрактное сознание — и так получается диалектика» [Бахтин, 1979, с. 352].
По словам одного из бахтинистов, «Бахтин неоднократно противопоставляет диалог диалектике. Здесь две причины: первая — диалог открыт, вторая — диалог, в отличие от диалектики, возможен лишь среди реальных, живых людей. Процесс тезиса, антитезиса и синтеза имеет место в одном-единственном сознании, даже вне всякого конкретного сознания; диалог же требует, по меньшей мере, двух участников со своим собственным опытом, взглядами, голосами. По самому своему духу диалектика с ее закрытостью, абстрактностью и уверенностью в исходе истории противостоит диалогу, который предлагает возможность того, что Бахтин назвал "сюрпризностью"» (см.: [Морсон, 2002, с. 206]). Это, конечно, большой вопрос: сколько сознаний требуется для диалога. На наш взгляд, и одного вполне достаточно. Но главное в приведенной цитате — в другом. В ней действительно выражено бахтинское понимание диалектики. И понимаемая так диалектика вполне согласуется с концептом «заочной правды», проистекающим из интерпретации сознания с позиций вульгарного естествознания. Действительно, если сознание человека берется только в формате объекта — а именно такой формат и характерен для классического естествознания — такое сознание закрыто для внешнего мира. Оно, это сознание, начинает выступать как замкнутая на саму себя субстанция, «внутри» которой и происходит «биение мысли». Окружающий мир для такого сознания является либо «стимулирующим» фактором, либо враждебной средой, от которой необходимо защититься. Так понимаемое сознание живет своей особой жизнью, законы которой качественно отличаются от тех законов, которые царствуют за его пределами — будь это законы природы или общества. Сознание, таким образом, приобретает статус лейбницевой монады или кантовской вещи-в-себе, понять которую мы можем только «заочно», то есть по внешним ее проявлениям, которые, собственно, и были приняты в качестве предмета психологии бихевиоризмом и когнитивизмом, главенствующими в психологии в годы создания М. М. Бахтиным своей диалогической теории.
М. М. Бахтин, если обратиться к приведенным выше высказываниям, казалось бы, отрицает возможность диалектической интерпретации диалога. Однако не будем торопиться и ставить во главу угла вырванную из контекста фразу, в которой диалектика интерпретируется как безжизненная абстракция, оторванная от «интонаций» и «живых слов». Да и как было диалектику интерпретировать, если в XX столетии исследователи привыкли к тому, что в диалектическом учении главное место занимает принцип борьбы противоположностей и в этой борьбе особое внимание уделялось борьбе классовой. Исследователи ХХ века — и, кажется, Бахтин не составлял исключения — привыкли к тому, что есть два основных определения диалектики. Первое, «идеалистическое», гегелевское — диалектика есть учение о саморазвитии абсолютного духа — было «перевернуто» и «поставлено на ноги» вторым, марксистским. Именно последнее определение, как «самое правильное», и вошло в методологический аппарат советской (и не только советской) психологии. Подобные толкования доводят некоторых авторов (напр. [Wegerif, 2008]) до противопоставления Бахтина культурно-исторической теории на том основании, что ее создатель, будучи диалектиком, ищет во всем противоречия, Бахтин же — настоящий диалогист, то есть ищет единство двух голосов.
Однако, как мы пытались показать, в истории диалектики не все так одномерно: понятие «диалектика» многозначно и имеет множество толкований. Стоит еще раз вспомнить призыв Э. Фромма к психологическому сообществу обратить внимание на «парадоксальную логику» Гегеля и Маркса [Фромм, 1995]. Для понимания диалектики диалогической философии М. М. Бахтина мы обратимся именно к этой — «парадоксальной» — интерпретации. Для этого нам стоит признать, что в основании позитивистского образа мира лежат аристотелевские законы формальной логики, краеугольным камнем которых является закон тождества: А должно быть равно А в одно и то же время или в одном и том же отношении. В «Метафизике» Аристотеля мы обнаружим десятки упоминаний этого закона, на котором построено все учение философа. Объект не может быть чем-то другим. И это вполне здравая мысль с точки зрения нашей повседневной жизни.
Диалектическая, она же «парадоксальная» логика утверждает: А не только может, но и должно быть равно не-А в одно и то же время. Более того, гегелевская логика утверждает, что именно этот принцип, прямо противоречащий формально-логическим закономерностям, лежит в основе саморазвития. Живой, то есть саморазвивающийся предмет потому и развивается, что является двуединым образованием. В нем обязательно должно быть и А, и не-А, то есть нечто противоположное. Саморазвитие будет происходить только в том случае, если эти две составляющие сосуществуют в данном организме. Эта борьба двух противоположных начал и есть тот импульс, который дает возможность развиваться данному образованию. И именно здесь — в точке, разделяющей позитивистское понимание диалектики (как ни странно звучит такое словосочетание) от понимания «парадоксального», — нам видится возможность понимания философии М. М. Бахтина как теории психагогического диалогизма.
Если мы хотим понять диалог как живое целое — а именно так и следует понимать диалогизм М. М. Бахтина — мы должны разрешить противоречие, в котором оказывается человек в силу законов, управляющих его существованием. Живое не может не быть целостным, то есть оно должно включать в себя одновременно (подчеркиваем: одновременно!) прямо противоречащие друг другу стороны, аспекты. Только такое внутреннее противоречие может объяснить самодвижение целого. В противном случае мы окажемся в тисках механического детерминизма с его законным порождением — заочной правдой. И элементы «парадоксально-диалектического» подхода мы находим в диалогизме Бахтина. Вспомним: по Бахтину, диалог — самая широкая противоположность, единство противоположностей. В этой связи он приводит высказывание М. И. Глинки: «Все в жизни контрапункт, т. е. противоположность», — и добавляет: «Да и по существу, с точки зрения философской эстетики контрапунктические отношения в музыке являются лишь музыкальной разновидностью понятых широко диалогических отношений» [Бахтин, 2002, с. 26]. Эти контрапунктические отношения и есть источник того импульса, который дает возможность развиваться данному образованию.
Но мы помним, что, по Бахтину, между этими противоречивыми сторонами существует непреодолимый «зазор», который только и позволяет понять, что «Я» и «Ты» — не одно и то же, что «Я» и «Другой» разграничены, не составляют единого целого. Но, предполагая существование «вненаходимости», то есть некоторого «расстояния» между «Я» и «Другим», казалось бы, мы тем самым утрачиваем возможность «иной» диалектики.
В поисках разрешения этого парадокса обратимся еще к одной категории, активно используемой М. М. Бахтиным. Это категория «вчувствование». Для того чтобы мы могли говорить о диалоге, утверждает Бахтин, субъект должен соотнести свое действие с другим человеком и «вчувствоваться» в него. Категория «вчувствование» — хотя и не самый удачный, по мнению М. Хайдеггера [2002, с. 124], термин — роднит философию Бахтина с экзистенциализмом.
Чтобы пояснить наше понимание этого термина, мы снова приведем иллюстрацию, заимствованную у Э. Гуссерля [Гуссерль, 1998] и М. К. Мамардашвили (см.: [Сенокосов, 1992]), приводящих в пример человека, воспринимающего дом. В сознании такого человека сразу же всплывает образ, содержащий все многообразие его опыта. Он совершенно отчетливо «видит» дом, так сказать, со всех сторон, причем и извне и изнутри. Если же мы припомним особенности наших отдельных восприятий тех или иных конкретных домов, то сразу же поймем, что единичное восприятие дома есть не более чем восприятие проекции дома на нашу сетчатку. Мы, таким образом, никогда не воспринимаем тот дом, который потом припоминаем. Отдельные модальности вещей, воспринимаемые при помощи наших органов чувств, никогда не дают полную картину. Всегда остается некий остаток. Всегда существует некое «что», которое является внемодальным и проявляется в моем отношении к предмету не как к совокупности отдельных качеств, а как к чему-то тождественному, а значит — внемодальному. Одного моего чувства предметности не достаточно для того, чтобы предметность заработала. Иными словами, для того чтобы создать адекватный образ мира, недостаточно одних чувственных восприятий. Необходимо еще нечто.
Откуда же такое «нечто» берется? Мы уже упоминали ответ на этот вопрос, предложенный А. Ф. Лосевым, наметившим «первичную необходимую диалектическую схему, то, без чего никакой предмет не мыслим». То, атрибутом чего является диалектическое развитие, должно, во-первых, отличаться от Иного. Действительно, если Одно ни от чего не отличается, то мы не можем сказать, есть ли Одно на самом деле. Это означает, что Одно должно иметь границу с Иным. Значит, говорит Лосев, Одно существует, во-первых, как само по себе существующее, но, во-вторых, и как тождественное с Иным. То есть оно находится в становлении — в постоянном переходе от самого по себе Одно и тождеством Одного с Иным [Лосев, 1990, с. 272–273]. Используя терминологию диалогизма, мы скажем: для того, чтобы мир воспринимался, необходимо присутствие другого человека: «Единство разнообразного становится возможным благодаря тому, что я, будучи тождественным в вариативности моих ощущений, ориентируюсь на другого как на тождественного» [Страус, 2001, с. 268].
Но мало присутствия такого «Другого» — мы должны его понять. По терминологии М. М. Бахтина, мы должны «вчувствоваться» во «вненаходимого» «Другого». Впрочем, отождествляя термины «понимание» и «вчувствование», мы сделаем оговорку. Мы вовсе не хотим уподобить здесь вчувствование тому теоретическому пониманию, с противопоставления которому начинается не только философия Бахтина, но вся диалогическая методология. Мы должны разделить два вида понимания. Кроме того понимания, которое характерно для «заочного» познания человека, возможна и другая форма. О таком понимании говорил Н. А. Бердяев, утверждая необходимость привлечения идеи «мистического» познания. Принимая этот термин, мы в качестве такого понимания берем психологический феномен, который давно известен под именем инсайта, внезапного озарения. Это «понимание как превращение чужого в {"свое-чужое"}» [Бахтин, 1979, с. 372]. У Бахтина диалог — не обмен репликами, за счет которого мы можем артикулировать понимание «Другого». Вчувствование в диалогизме М. М. Бахтина — пульсация моего «Я», постоянное его столкновение с Миром, то есть с «не-Я». Это разговор на уровне сознания, на уровне феноменологического «Я». Не дай бог, этот диалог уйдет в сферу чувственности. В таком случае, говорят, бывает и так, что слышатся голоса буквально. Но это область психиатрии, это патология.
Состояние моего «Я», стремящегося понять «Другого» и поэтому пребывающего непременно в столкновении с «Другим», М. М. Бахтин называет диалогической установкой. Такая установка позволяет, с одной стороны, находиться «в теснейшей связи с чужим словом» и тем самым «подойти к нему как к смысловой позиции, как к другой точке зрения» [Бахтин, 2002, с. 37]. В то же время, по Бахтину, понимание предполагает объективность по отношению к понимаемому. А это возможно лишь при наличии между понимающим и понимаемым определенной дистанции. Именно диалогическая установка и позволяет такую дистанцию сохранить. Я стремлюсь к «Другому» как составляющей Мира. Мир же вненаходим по отношению к моему «Я»: между «Я» и «Другим» — зазор. Но в то же время диалог невозможен, если «Другой» не превратился, не преобразовался в «Я». Говоря языком естествознания, между «Я» и «Другим» происходит процесс ассимиляции — диссимиляции. «Я» поглощает «Другого» и отталкивает его (отталкивается от него). И это не два, поочередно происходящих процесса. Это — одномоментное состояние, в котором не работает объективированное время и аристотелевский закон тождества. Такое соотношение двух составляющих диалога позволяет говорить об интуитивном чувстве неразрывного единства «Я» и «Другого» в теории Бахтина, а современному автору — следующим образом трактовать его диалогическую философию: «В принципе для Бахтина любые высказывания диалогичны, потому, что даже самые монологические (по содержанию, стилистике, синтаксису) высказывания и тексты всегда являются некоторым ответом на порождающую их социально-субъектную ситуацию и некоторым обращением к будущему, потенциальному слушателю, читателю» [Дьяконов, 2006, с. 51].
Возникает вопрос: имеет ли содержание термина «дистанция» у Бахтина исключительно пространственное насыщение, как это предполагается при традиционном его употреблении? Конечно, нет. Однако, концепты, употребляемые М. М. Бахтиным, — «вчувствование», «дистанция», «диалогическая установка» и тому подобные — при более пристальном рассмотрении вызывают ассоциации с определенными естественно-научными представлениями. Например, «дистанция» в теории Бахтина очень похожа на расстояние между телами, расположенными во Вселенной и подчиняющимися закону всемирного тяготения. Действительно, как планета, вращающаяся вокруг своего солнца, не падает на него и не удаляется от него, поскольку сила притяжения компенсируется центробежными тенденциями, так и диалогическая установка полагает наличие своеобразной «гравитации», за счет которой «Я» способен вчувствоваться в «Другого». Но именно вчувствование как слияние «Я» и «Другого» отрицает понимание, осуществление которого предполагает наличие некоторого «зазора» между «Я» и «Другим». Значит, существует какой-то «центробежный» механизм, позволяющий произвести «остранение» (если воспользоваться термином Шкловского) и сохранить, таким образом, дистанцию между «Я» и «Другим».
«Диалогическая установка» у Бахтина, таким образом, выступает как аналог некоей силы (высшей силы?), которая задает «планетарную модель» в современной астрономии. Но это — закон всемирного тяготения в, так сказать, экзистенциальном формате. На вопрос: что такое гравитация? — современная физика дает ответ: это когда, подпрыгнув, мы опускаемся обратно. На следующий вопрос: а почему мы, подпрыгнув, опускаемся обратно? — наилучший ответ сформулировал Спиноза: потому, что Бог — Природа — Субстанция обладает таким атрибутом. Аналогичный ответ можно было бы дать и на вопрос: что такое диалогическая установка? Это естественная, природная направленность на «Другого», без которого «Я» существовать не может, потому что таков закон Природы.
Постановка проблемы диалогизма у М. М. Бахтина заставляет нас по-новому взглянуть на соотношение того, что обычно подразумевается под категорией «естественно-научная парадигма». Чтобы понять концепты «карнавализация», «сюрпризность», «вненаходимость» и другие, мы должны противопоставить друг другу два понимания естественно-научности. Одно из них берет свое начало в представлении картезианцев о протяженной субстанции как мертвом образовании, подчиненном принципу механистического детерминизма. Второе понимание основано на понимании природы как живого саморазвивающегося движения. Безусловно, имплицитно, но Бахтин, категорически противопоставляя свой принцип диалогизма картезианству, выступает сторонником второго понимания природы. В контексте этого подхода сама деятельность есть диалогически (но не физически) направленное становление жизни, основными составляющими которой являются «Я» и «Мы».
М. М. Бахтин говорит: подлинная жизнь личности есть точка несовпадения А и не-А. По крайней мере, считает Бахтин, такова позиция Достоевского (и это, кажется, совпадает с его, Бахтина, видением человека). И именно диалог служит механизмом проникновения за «пограничную линию», разделяющую объективную реальность, данную нам при помощи органов чувств, и «истинную реальность» — в сферу «фиксированных точек интенсивности» (как позже обозначит эту сферу бытия М. К. Мамардашвили), в подлинную жизнь. Но не только механизмом проникновения, но и самой такой границей — между жизнью и Жизнью, — на наш взгляд, в философии М. М. Бахтина является концепт «диалог», определяющий собой всю систему его размышлений. Именно эта особенность диалога — его «пограничное» положение — представляет собой исходный фактор, определяющий рассмотрение философии Бахтина.
Мы поставили вопрос: насколько «гуманитарным» является диалогизм М. М. Бахтина? Так ли уж однозначно он противостоит тому направлению в науке, которое принято называть естествознанием и, соответственно, естественно-научной психологией? Ответ, на наш взгляд, связан с той интерпретацией, которую мы используем при определении понятия естественно-научности. На основании проведенных выше рассуждений мы можем сделать вывод: диалог в системе М. М. Бахтина психагогически-диалектичен, то есть предполагает участие «Другого» с целью создания условий для своего становления, основанием которого является имманентно присущая такому диалогу противоречивость. Сам диалог, таким образом, выступает как направленность «Я» на Мир, как бесконечное вопрошание, о котором говорит не только М. М. Бахтин, но и многие другие представители гуманитарной сферы [Библер, 1991] и естествознания [Гейзенберг, 1989].
Таким образом, ответ на поставленный нами вопрос выглядит следующим образом. Если оставаться в пределах жесткой позитивистской парадигмы (которая, по сути, до сих пор превалирует в науке), то диалогизм Бахтина невозможно рассматривать иначе, чем вполне определенное отрицание такого естествознания. Однако нам представляется возможной другая интерпретация естественно-научности. В этом последнем случае под естествознанием следует понимать такой познавательный процесс, который направлен на построение предмета исследования как саморазвивающейся органической системы. Если традиционно предметом естественно-научного исследования выступает (в традициях О. Конта) чувственно воспринимаемый объект, то естествознание, которое, на наш взгляд, уместно назвать психагогико-диалектическим, в качестве своего предмета берет явление, отображающее определенную предметную область, и пытается выявить условия, в которых такой предмет получает необходимые и/или достаточные условия для своего становления: прямая дорога к построению этого исследования — создание таких условий. В этом случае диалог в философии М. М. Бахтина выглядит как живой саморазвивающийся процесс, исследование которого поможет нам раскрыть системообразующие атрибуты жизни как формы человеческого существования. А если это так, то и в отношении психологической науки мы можем утверждать следующее. Если трактовать ее так, как это делают позитивистски настроенные исследователи, то, безусловно, диалогизм Бахтина — ее антагонист. Впрочем, такая наука вряд ли поможет нам познать глубинные законы существования человека. Наверное, и такая психология нужна. Другое дело, можно ли ее называть этим именем, то есть наукой о душе?
1 Подчеркнем: различия между аристотелевским и галилеевским подходом вовсе не сводятся к дихотомии телеологическое-каузальное (см.: [Богданов, 1991]).
2 В. М. Розин предлагает более жесткую формулировку: кризис психологии может быть уверенно квалифицирован как кризис построения психологии по образцу (или идеалу) естественной науки [Розин, 1993], а А. А. Голов называет естествознание первородным грехом психологии [Голов, 1993]. В соответствии же с наиболее жесткой оценкой, вследствие абсолютизации аналитического метода естествознание стало праисточником Чернобыля и чуть не всех вообще «побед» и несчастий прогресса [Жутиков, 2010].
3 В психологии на параллель между взглядами индийских мудрецов и теоретическими рассуждениями классиков современной физики указывает С. Гроф [Гроф, 2004].
4 Впрочем, Шпенглер честно признается: мне, говорит он, больше нравится римский воин, чем афинский философ, потому что я человек эпохи упадка цивилизации, ее заката.
5 «Ресентимент (от франц. ressentiment) – окрашенное недоброжелательством переживание прошлых обид, унижений или оскорблений, мстительная злопамятность, "затаенная обида" (М. Вебер), вторичная и отравленная эмоция, источающая яд» [Визгин, 2004а, с. 614].
Высшие переживания - особо радостные и интенсивные переживания в жизни каждого индивида. Маслоу связывает высшие переживания с сильным чувством любви, с наслаждением от соприкосновения с произведением искусства или с исключительной красоты природой. - Прим. перев.
6Можно сослаться лишь на устный рассказ академика АПН СССР Т.А. Власовой, работавшей а начале пятидесятых годов в Отделе науки ЦК партии, которым в то время заведовал Ю.А. Жданов. Она говорила, что после «павловской» сессии уже был подготовлен проект документа, который должен был стать основой для постановления, аналогичного принятому в 1936 году по поводу педологии. В частности, в нем содержалось предложение «закрыть» психологию, заменив ее повсюду физиологией высшей нервной деятельности. Документ был представлен на утверждение Сталину. Получив и просмотрев проект, он сказал: «Нет, психология — это психология, а физиология — это физиология». На этом «научные» проблемы были решены и к ним больше не возвращались.
7Характерен следующий факт. В начале пятидесятых годов труды Павлова не только изучались, но воспринимались как откровение. И вдруг обнаруживается, что в многочисленных изданиях его книг допущена ошибка, которую некоторые читатели готовы были расценивать не иначе, как происки «врагов народа». Павлов в статье «Условный рефлекс» (БСЭ, т. 56, М., 1936, с. 331), написанной для Большой Советской Энциклопедии, пишет: «... многочисленные раздражения словом, с одной стороны, удалили нас от действительности, и поэтому мы постоянно должны помнить это, чтобы не исказить наши отношения к действительности. С другой стороны, труд и связанное с ним слово сделало нас людьми, о чем, конечно, здесь подробнее говорить не приходится» (выделено нами. — А.Л., М.Я.). Так в Энциклопедии. Однако в Полном собрании сочинений И.П. Павлова (том 3, книга вторая, М., 1951, с. 336) написано по-иному: «...с другой стороны, именно слово сделало нас людьми, о чем, конечно, здесь подробнее говорить не приходится» (выделено нами. АЛ., М.Я.). Итак, в 1936 г. великого ученого бесцеремонно «поправили» без его ведома вписали ему в текст статьи указание на роль труда в происхождении человека, дабы никаких расхождений с Энгельсом у него не было. Исправление в Полном собрании сочинений, по-видимому, отзвук возмущения Павлова, потребовавшего, чтобы произвольное обращение с его текстом больше не повторялось.
8 По отношению к методологии диалогизма нам представляется полезным воспользоваться разведением двух форм диалога, предложенным Г. В. Дьяконовым: «Различая "диа-логию" и "диа-логику", мы исходим из различия онтологической, бытийной категории "Логоса" и научно-рационалистической категории "логики"» [Дьяконов, 2006, с. 63].
